Предложите идею
и мы вам обязательно ответим
Подпишитесь на наши новости
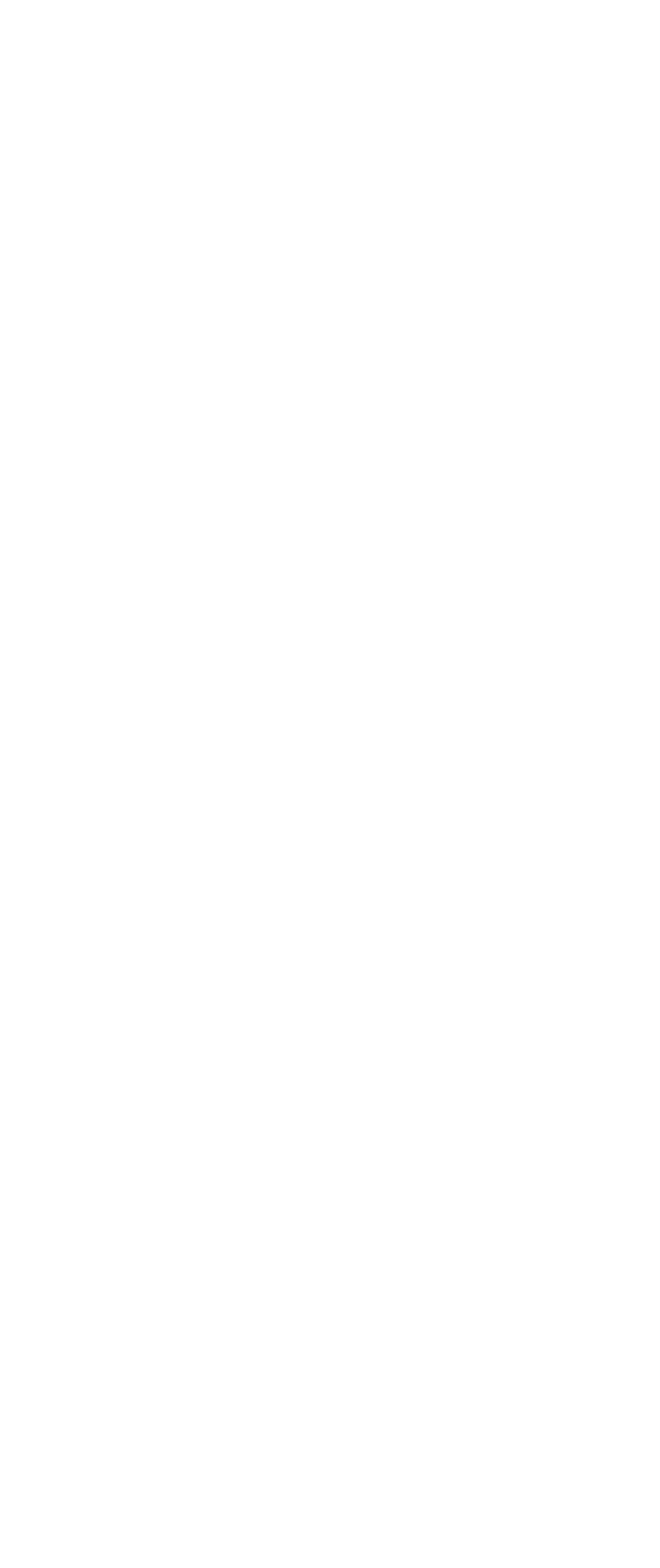

Как устроен литературный мир Таласбека Асемкулова
Курс Зиры Наурзбаевой о жизни и творчестве Таласбека Асемкулова (1955-2014), кюйші, писателя, исследователя музыки, истории и этнографии, литературного и музыкального критика, переводчика и мастера по созданию домбр, в которых нашли отражение ключевые события и личности ХХ века.
аудио

Steppe Space / Art Collider / Литературный мир Таласбека Асемкулова
Расшифровки лекций
64-летний старик-казах забрал у дочери новорожденного внука. Это произошло в 1955 году. Старик имел взрослого сына и внуков от него. Его жена была бездетна и не хотела ребенка. Но старик сел на коня, приехал в соседний аул и увез мальчик, которому исполнилось всего 2 дня. Старик не знал, как ухаживать за младенцем, в дороге он напоил новорожденного коровьим молоком, и тот чуть не погиб. Старик целыми днями работал в поле мирабом, его жена отказалась ухаживать за ребенком, и тот лежал в бесике целыми днями. Старик нашел для усыновленного внука молочную мать. Добрая женщина полюбила малыша, но она была многодетной, жила в нескольких километрах от аула на ферме. Только два раза в сутки она приходила накормить, выкупать, сделать традиционный массаж младенцу. Первые две недели малыш плакал, а потом перестал, потому что понял: к нему никто не подойдет днем. Через много лет, взрослым, он по памяти напел своей молочной матери песни, которые она пела ему, пока кормила. Перед смертью старик попросил у семнадцатилетнего внука прощение за то, что лишил его детства и материнской любви. В автобиографическом романе Таласбека Асемкулова «Талтүс» − «Полдень» главный герой, прототипом которого был дед писателя по матери Жунусбай Стамбаев (1891−1973), говорит внуку: «Когда я взял тебя, грудного младенца, у дочери и усыновил, я думал только о своем искусстве... Я думал, если я умру вот так, без ученика, то все исчезнет со мной. Все, что завещали мне учителя. Что делать. Жизнь клонится к закату. Старею. Никто не ищет меня. Никто не вспоминает обо мне. Попробовал учить аульных детей, в которых приметил склонность к искусству. Ничего не получилось. В это время родился ты. Не подумай, что я преувеличиваю, но, кажется, сам Бог вел меня, когда я забрал тебя у твоей матери. Знаю, твоя жизнь из-за моего поступка была горестной. Прости меня, мой свет». Искусство, которое Жунусбай получил от своих учителей, и которое хотел сохранить, передав внуку – это казахское искусство домбровой музыки. Казалось бы, в советское время оно процветало, домбристы − оркестры и солисты − постоянно выступали на ТВ и радио, со сцен. Игру на домбре преподавали в многочисленных музыкальных школах, училищах, в консерватории им. Курмангазы. Академический оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы с успехом гастролировал по миру. Так в чем была проблема, боль старика Жунусбая? Чтобы понять это, нужно обратиться к истории.
Казахи – наследники воинственной конно-кочевой цивилизации Степи – боготворили музыку и поэзию, которые передавались изустно, от учителя к ученику. Наряду с обычной генеалогией существовали генеалогии духовной преемственности, уводившие во времена Чингисхана и далее, в глубь тысячелетий. Кюй – короткая, от минуты до четырех − инструментальная пьеса. Слово «күй» этимологически восходит к слову «көк» − «небо, высшее, божественное». Казахи считали кюй «шепотом Тенгри» и почитали кюйши – избранных музыкантов, способных услышать этот шепот, донести его до обычных людей. В ХХ веке в результате голодоморов, вызванных ими откочевок, подавления восстаний, репрессий, войны, казахи оказались меньшинством на родной земле. Вместе с казахским народом было обескровлено и его традиционное искусство. Более того, музыканты и поэты часто преследовались властью как носители классово чуждой идеологии. В 1934 году в Алматы несколько молодых музыкантов, пытаясь сохранить и развить в духе времени казахскую музыку, организовали домбровый оркестр, который позднее вырос в Оркестр имени Курмангазы. Этот оркестр имел успех не только у публики, но и у власти, как пример удачной реализации концепции Сталина «национального по форме и социалистического по содержанию» искусства. Обратите внимание: первая декада − десятидневный фестиваль − казахского искусства и литературы в Москве состоялась в 1936 году, когда казахи еще не пришли в себя от голодомора. Советской идеологии нужно было демонстрировать расцвет национальностей при новой власти. Вскоре стали появляться и другие оркестры казахских народных инструментов. Государственная система музыкального образования стала готовить музыкантов для оркестров, со временем появились особые факультеты народных инструментов, готовившие музыкантов-народников. Казалось бы, все это можно только приветствовать, советское государство поддержало, институционализировало, открыло невиданные ранее перспективы развития для казахской музыки... Но дьявол кроется в деталях.
Оркестр имени Курмангазы ориентировался на созданный в конце ХІХ века оркестр имени Андреева. В этом оркестре, первоначально Кружке любителей игры на балалайках, позднее Императорский Великорусский оркестр, модифицированные русские народные инструменты – гусли, балалайки, домры – были объединены по принципу симфонического оркестра. Но русская традиционная музыка преследовалась и уничтожалась православной церковью на протяжении многих веков как язычество. Трудно сказать, каким был ее уровень когда-то, но в ХІХ веке в России существовали два отдельных института: высокая классика, заимствованная из Европы и патронировавшаяся аристократией, и фольклор − крестьянский, городской. Разрыв был настолько огромен, что организатор кружка подвергался насмешкам родственников и друзей за свою любовь к балалайке, которая, кстати, появилась в России лишь в конце 17 века и имела до модификации округлый корпус. Федор Шаляпин после концерта оркестра обратился к Андрееву: «Ты пригрел у своего доброго, тёплого сердца сиротинку балалайку». Под влиянием оркестра балалайка стала не просто популярной среди просвещенной публики, обучение игре на ней было введено в войсках. Андреевский оркестр был инструментом конструирования национальности: европейски образованные музыканты собирали осколки давно разрушенной исконной традиции и выстраивали нечто небывалое ранее. Поскольку собственного репертуара не было, за исключением нескольких народных песен и примитивных наигрышей, то оркестр исполнял в основном произведения самого Андреева, европейскую и европейского образца русскую классику, а также городской фольклор. Совершенно другая ситуация была в казахской музыке: кроме общего высокого музыкального уровня, когда каждый второй пел, каждый третий играл на домбре, существовали древние профессиональные школы, музыканты, полностью посвящавшие свою жизнь тонкостям музыкального исполнительства и сочинительства, огромный репертуар: после всех потерь ХХ века с легкостью был сформирован CD-альбом «Тысяча казахских кюев» (2010), множество произведений осталось «за бортом», не вошли в заявленную тысячу. Коротко говоря, кроме фольклора у казахов существовала собственная классика, традиционное профессиональное искусство. Домбровый оркестр самим фактом подражания Андреевскому, позиционировал казахскую музыку как фольклор, как народную музыку, т.е. как нечто заведомо более низкое по сравнению с европейской классикой, профессиональной музыкой вообще. Для оркестра казахские инструменты были модифицированы, особенно кардинально изменился кобыз. О политическом контексте, в котором создавался оркестр, красноречиво свидетельствует фраза Ахмет Жубанова в книге ""Струны столетий"": ""Демонстрация домбры на коллегии Наркомпроса республики ошеломила всех присутствующих. Особенно бурно аплодировали те работники Наркомпроса, которые незадолго перед этим смеялись над нашей затеей, считая домбру инструментом, не поддающимся усовершенствованию, обреченным на отмирание вместе с отмиранием феодализма, поскольку-де она, домбра, была ""идейным оружием феодального уклада жизни"". Оркестр игнорировал, разрушал принципиально сольную природу казахской музыки. Ради оркестрового исполнения домбровое искусство упростили и технически, и содержательно. Один только пример: для казахской традиционной музыки было характерно микро интонирование, использовались ¼, 1/8, 1/16 ноты. Лады на грифе домбры крепились независимо друг от друга и могли передвигаться под конкретный кюй, т.е. каждый кюй по сути имел собственную ладовую систему. От всего этого отказались в оркестре. Так что, когда Таласбек в 1970-1980-ые говорил о микро интонировании в казахской музыке, это воспринималось как его фантазия. Только сейчас его утверждения подтверждаются записями музыкальных экспедиций из глубинки СУАР Китая, на которую не оказало влияние советское музыкальное образование. Точно так же было упрощен, унифицирован метроритм, техника игры на домбре. И содержание тоже упрощалось, выхолащивалось. В основном оркестр исполнял русскую и европейскую классику, советскую музыку. Из казахской в основном исполнялся Курмангазы, еще несколько кюйши одной школы с ним. Географически это Букеевская орда. Причем многие произведения других кюйши, например, Даулеткерея, были приписаны Курмангазы. Почему именно ему? Потому что бурная жизнь Курмангазы в конфликте с властями и баями позволяла сконструировать образ, подходящий для советской идеологии. Например, у него есть кюй «Лаушке». Было объявлено, что этот кюй посвящен рабочему-революционеру Лавочкину, с которым Курмангазы якобы подружился в тюрьме. На самом деле, кюй был посвящен русскому купцу, который хорошо относился к кюйши и временами поддерживал его. И вторая причина – динамизм и напор, присущий кюям Курмангазы, хорошо подходил для оркестрового исполнения. Кюи других школ и регионов в репертуаре оркестра, а следовательно, в официальном музыкальном образовании практически не были представлены. Почему казахские музыканты согласились на это? Ответ простой – они прошли вместе со всем казахским народом через голодоморы и репрессии. Например, великая Дина Нурпеисова приехала в Алматы в возрасте 73 лет. Когда-то до революции она выступала на ярмарках, и казахи бросали к ее ногам свертки жемчуга, браслеты и кольца, пачки денег. В годы голодомора она, чтобы спасти внуков, собирала дикое просо. А когда выступала на ярмарке, к ее ногам слушатели, которые сами голодали, могли положить кусок хлеба или курт. И конечно она понимала, что возврата к прежней жизни не будет, что смириться, выступать с оркестром в Алматы – это единственный способ сохранить традицию, которую она унаследовала от Даулеткерея и Курмангазы, десятка других ее предшественников. В оркестре постоянно шли постоянные репрессии. Сейчас мы помним Ахмета Жубанова как основателя оркестра. Но на самом деле их было несколько человек, в основном чингизиды, двое из них погибли в репрессиях: родственник Даулеткерея Махамбет Букейханов (был сослан на три года в 1928 и расстрелян в 1937) и родственник великого певца Мухита Камбар Медетов. Ахмет тоже был затронут репрессиями: его старший брат Кудайберген Жубанов, первый казахский профессиональный лингвист, был расстрелян в 1938 году. Словом, выбора у музыкантов не было. Музыканты, выступавшие в оркестре позднее, получали официальное музыкальное образование. Они стали называться «народниками, считались исполнителями фольклора. Акцент в образовании делался на исполнении европейских и русских «вещей», выпускник консерватории имел в репертуаре 20-30 кюев против 200-300 кюев в репертуаре кюйши. Но дело даже не в количестве. Есть принципиальная разница между фольклором и традиционной музыкой, потому что само слово «традиция» означает передачу неких знаний. Казахские кюйши посвящали всю жизнь получению и передаче музыкальных знаний. Но в советской идеологии дореволюционных кюйши принято было называть «самородками», что подразумевает: человек случайно родился талантливым и как-то сам, понемногу, пока пас отару овец, научился играть на инструменте. Наследие великих музыкантов превратилось в фольклор – материал для советских композиторов. Например, командированный в 1933 году в Казахстан «из центра» композитор Евгений Брусиловский стал автором первых казахских опер. Первую из опер «Кыз Жибек» он написал уже в 1934 году, она составлена из казахских песен: например, ария Кыз-Жибек – это песня репрессированного Укили Ибрая «Гакку». Поскольку Е. Брусиловский казахского «материала» не знал, рядом с ним во время работы сидели традиционные певцы, превратившиеся в оперных, и подсказывали, какую песню можно использовать в том или ином эпизоде. Справедливости ради надо сказать, что композитор в своих трудах не забывал выразить уважение к репрессированным казахским музыкантам, которых знал. Те музыканты, которые остались в регионах, были статусом еще ниже «народников». Выжившие в голодомор, репрессии и войны музыканты традиционного типа оказались вытеснены на маргиналии, они могли демонстрировать свое искусство только в близком кругу или если даже попадали на сцену, то это считалось самодеятельностью. Зарабатывать на жизнь искусством, готовить официально учеников они не имели права. Они обязательно должны были работать в «социалистическом народном хозяйстве», иначе им грозило уголовное наказание за тунеядство. Отныне они были для власти и слушателей не профессиональными музыкантами, продолжателями своих школ, а чабанами, колхозниками, полеводами, бухгалтерами и агрономами, на досуге увлекавшимися фольклором. В казахском этномузыковедении только в 1970-ые годы через сорок лет появился термин «устное профессиональное искусство». Но для государства, для чиновников домбристы, кобызисты, казахские певцы все еще «народники» - второй сорт по сравнению с исполнителями европейской классики. Когда в 2013 году в Казахстане открылось радио «Классика», его основателю и директору Раушан Джуманиязовой долго пришлось доказывать начальству необходимость нашей передачи «Тылсым перне» о традиционной казахской музыке. В голове у телерадио-чиновников не укладывалось: какое отношение к классике может иметь казахская «народная» музыка. Такова сила колониальных стереотипов. И если этот стереотип постепенно можно изменить, то гораздо трагичнее то, что казахская музыка потеряла квалифицированного слушателя. Т. Асемкулов в одном из интервью объясняет: «В свое время дирижеры оркестра, чтобы подчеркнуть мощь, динамику кюев Курмангазы, очень сильно увеличили темп. Потом этот темп перешел в сольное исполнительство. Домбристы стали быстро исполнять, понимаете. Со временем быстрое исполнение стали выдавать за высокую технику. То есть, как мы видим, произошла банальная подмена понятий. Вот этот новый стиль создавал новые технические трудности для исполнителя. При высоком темпе смазывается и вследствие этого даже как бы исчезает ритмический рисунок, да и вообще вся мелодия». Таласбек так объяснял суть явления: представьте, что человек вместо фразы «я тебя люблю» быстро произносит невнятное «тблбл». В среднем темп исполнения увеличился в 2-3, а то и в 4 раза по сравнению с записями Дины. Таласбек таких домбристов прозвал в свое время «пулеметчиками», а их игру сравнивал с «мастурбацией зайца». И публика, которая сейчас просто не понимает языка казахской музыки, с восторгом приветствует именно «пулеметчиков». Поменялся звуковой идеал, а микроинтонирование стало восприниматься как фальшь. «У слушателя огрубел слух, и соответственно он воспринимает только блестящие произведения, только яркое исполнение». Такова ситуация со школой кюя, которая в советское время оказалась в привилегированной позиции, и которая для абсолютного большинства и есть казахская музыка как таковая. Но «в казахской инструментальной музыке существуют две великие школы – стиль «төкпе» (от слова «төгу» − лить, кистевая техника игры – З.Н.) и стиль «шертпе» (от слова «шерту» − щелкать, пальцевая техника, фингер стайл – З.Н.). Термины эти условны. Старики называли «токпе» кюями «ала байрақ» – кюями «пестро-красного знамени», т. е. это воинская музыка, музыка воинской касты. Кюи «шертпе» называли «нақысты күйлер». Условно это выражение можно перевести как «колористичные кюи». Токпе кюй распространен в Западном Казахстане, частично в диаспорах в Иране, Афганистане, Туркменистане, России, Узбекистане и Турции. Стиль «шертпе» охватывает Центральный, Восточный, Южный (Семиречье) и Северный Казахстан, то есть от Оренбурга и до берегов Сырдарьи... Термин западная школа, «токпе кюй», как мы уже отмечали, является условным. Западная школа сама по себе неоднородна. Там много школ, и ни одна не похожа, не повторяет другую». Например, мангыстауская школа сильно отличается от Бокеевской, представителями которой являлись Даулеткерей, Курмангазы, Дина. Тоже самое и аральская школа или школа Казангапа. Но когда современный домбрист, получивший официальное образование, «исполняет Казангапа, вы слышите не Казангапа, вы слышите Курмангазы». Нет аутентичности. Таласбек поясняет свою мысль: аутентичность – это не просто исполнение домбрового кюя на домбре. «Она связана с такими вещами, как знание техники определенной традиционной школы, присущих только ей законов формообразования, развития, индивидуального стиля крупных мастеров этой школы, логики их творческого мышления... Я слышал много разных интерпретаций Казангапа. И почти со всеми не согласен, потому что почти все они «творчески» подошли к его кюям, точнее, отошли от исполнительских канонов школы. Современная темповая техника негативно отразилась на этих интерпретациях. С. Балмагамбетов постиг тайну Казангапа, и теперь мы знаем, что кюй Казангапа – это неяркая песнь. И в этой неяркости скрыта страшная метафизическая тайна бытия. Мощь, гигантский напор, характерные для кюев Курмангазы, здесь неуместны. Современный исполнитель, даже если снизит темп исполнения, все равно ничего не добьется, потому что в его исполнении высокая динамика, несвойственная для кюев Казангапа, будет существовать латентно, скрытно». Хочу уточнить, что Таласбек не был против оркестров, он отмечал, что оркестр передает напор и динамизм кюев Курмангазы, характер некоторых кюев Даулеткерея и Сугура лучше раскрывается при ансамблевом исполнении, но оркестр не должен абсолютизироваться, в первую очередь музыкантов нужно формировать как сольников, надо сохранять и развивать региональные школы в их многообразии. Сам Таласбек представлял школу шертпе кюя Восточного и Центрального Казахстана. Эта традиция восходит к полководцу и кюйши 13 века Кет-Буге и еще дальше, вглубь веков. В советское время ее постигла горькая судьба: в репертуар оркестров и соответственно в учебную программу вошли 2-3 кюя Таттимбета и 1 кюй Токи. Причина не только в том, что основатели оркестра имени Курмангазы, выходцы из западного Казахстана плохо знали другие школы. Основная причина была идеологическая. Один из главных представителей этой школы композитор 18 века Байжигит был личным домбристом Аблай-хана, другой – Таттимбет – представителем родовой знати, волостным, имел чин сотника в царское время. Дед Таласбека Жунусбай Стамбаев, с которого мы начали разговор, тоже был сыном богатого бия. Благодаря богатству отца, в детстве и юности он беспрепятственно занимался только музыкой. Его главные учителя – кюйши Бодау, Кызай, Иләпі. Отец Жунусбая поочередно приглашал этих известных, но живших бедно кюйши вместе с семьями в свой аул. Его богатство позволило молодому Жунусбаю постоянно ездить по степи для продолжения обучения, для выступлений и соревнований. Сын бия мог выменять кобылу с жеребенком за право разучить новый кюй. Жунусбай участвовал в вооруженном сопротивлении Советской власти, возможно, был в составе милиции Алаш-Орды, была арестован в начале 1920-х, 23 года отбыл в ГУЛАГе, потом десять лет находился под надзором ГПУ. В 1950-ые он дважды приезжал в Алматы, чтобы записать для архивов радио или академии наук свой репертуар – более трехсот кюев. Но ему тогда отказали. Я хотела узнать, в чем конкретно он обвинялся в начале 1920-х, задолго до начала насильственной коллективизации, но архивный розыск пока не дал результатов. И вот такой человек в 1955 усыновил внука, чтобы передать ему полученное от учителей. При этом перед смертью он запретил внуку учиться в консерватории, зарабатывать на жизнь музыкой. Потому что он слушал радио, слишком хорошо знал, что из себя представляет официальная «казахская народная музыка». И хотел, чтобы внук в чистоте сохранил полученную традицию. Таласбек сохранил наследие Байжигита, был единственным его исполнителем после деда, в семнадцать лет выпустил сольный диск с кюями Байжигита на всесоюзной студии «Мелодия». Ректор консерватории, композитор Еркегали Рахмадиев являлся прямым потомком Байжигита в восьмом колене и предложил Таласбеку взять его в консерваторию без вступительных экзаменов. Об этой ситуации Таласбек говорил: «Соблазн был велик... Я посоветовался с домбристом Жаркыном-аға (Шакаримом), который сам закончил консерваторию. Он сказал мне: «Не ходи, Талас. Тебя сломают, изуродуют. Ты потеряешь свое искусство, потеряешь самого себя. Тебя превратят в музыкального робота». Позднее, работая в консерватории, я много раз наблюдал, как это делали с уже вполне сформировавшимися студентами-домбристами, особенно с Мангышлака. Многих сломали, некоторые бросили учебу» ...
Таласбек два года отучился в мединституте, потом ушел в армию, после демобилизации работал в ауле в комсомольско-молодежной овцеводческой бригаде, поступил на филологию в КазПИ, хотел заниматься устным наследием, но его жестко пресекли: его подход к интерпретации эпоса не соответствовал историческому материализму. Реабилитации традиционной казахской музыки он посвятил всю свою жизнь: вернул казахам 34 забытых кюя, самый древний из которых относится к XIII в., создавал собственные кюи, написал восемь томов прозы и исследований, консультировал этномузыковедов, негласно обучал молодых музыкантов тонкостям традиционного исполнительства. Одна из наиболее важных статей, которую Таласбеку удалось опубликовать в 1989 году в журнале «Жұлдыз» «ДОМБЫРАҒА ТІЛ БІТСЕ. Қазақтың байырғы музыкалық терминологиясы хақында», в которой он описывает традиционную музыкальную терминологию. Но с 1930-х и до сих пор в широком употреблении остается заимствованная европейская. От читателей статьи вот уже 40 лет идут удивленные комментарии: а что, у казахов были свои названия ладов, технических приемов, частей кюя? Настолько казахи привыкли к мысли, что у них не было никакого осмысления своей культуры. Мадина Тлостанова отмечает: «Деколониальность знания – это освобождение знания от навязанных модерностью/колониальностю принципов, правил, оптик и институтов, оставляющих за бортом все иные эпистемы и субъектности». Это как раз то, чему посвятил себя Таласбек, к чему его готовил его дед и другие учителя. Таласбек тридцать лет жил в Алматы без собственного жилья, часто без прописки (что было чревато наказанием в советское время), без работы. Зарабатывал на жизнь переводами, изготовлением домбр, что также приходилось делать негласно. Его почти не публиковали: одна-две статьи или рассказа в несколько лет. И эта ситуация продолжалась и в постсоветском Казахстане. По-настоящему он раскрылся в 2000-ые. Он создавал кюи, писал романы и киносценарии, исследования по музыке, истории, этнографии, мифологии, литературной и музыкальной критике, переводил с русского на казахский и наоборот, экспериментировал с домбрами. В статье «Будущее искусства кюя» Таласбек делится своими размышлениями по поводу воспитания домбриста у казахов: «В казахской традиции не было вычлененной разветвленной системы музыкальной педагогики, как то имеет место в Европе. Обучение кюю, песне или жыру было элементом общей системы воспитания. Главное богатство – человек, главная цель – воспитание духовной личности». Этот подход к воспитанию кюйши и позволил Таласбеку быть таким многогранным. Во всех своих ипостасях Таласбек Асемкулов в негласном рейтинге был одним из лучших в стране, но при этом оставался малоизвестен широкой публике. Он не смог реализоваться до конца ни в одной из своих ипостасей, слишком сильным было сопротивление. Он сохранил 34 кюя, но в юности его репертуар составлял около 80 кюев, они не были записаны, и сам он забыл их, потому что иногда годами не брал в руки домбру, чувствуя свою невостребованность. Но все же сейчас в музыкальном образовании появились классы, посвященные отдельным школам, в т.ч. шертпе-кюю, остались домбристы, которые сохраняют его репертуар, стремятся играть вдумчиво, как учил он, остались исследователи, на которых он повлиял. Музыковед Раушан Джуманиязова писала: «Я раскрою один секрет, который на самом деле – секрет Полишинеля. Источником большинства лучших работ по казахской музыке последних десятилетий является один человек, наш современник...Это Таласбек Асемкулов. Странный, энциклопедических знаний, эпатажный и скромный одновременно, расточительный во множестве своих талантов и ипостасей, он по-стивенкинговски «сиял». Ему принадлежат пронзительные строки о казахских музыкантах-кшатриях: «музыкой может считаться лишь то, что может стоять рядом со смертью», «казахский язык в образцах старинной поэзии, как и казахская музыка, напоминает куски огненной лавы».
Казахи – наследники воинственной конно-кочевой цивилизации Степи – боготворили музыку и поэзию, которые передавались изустно, от учителя к ученику. Наряду с обычной генеалогией существовали генеалогии духовной преемственности, уводившие во времена Чингисхана и далее, в глубь тысячелетий. Кюй – короткая, от минуты до четырех − инструментальная пьеса. Слово «күй» этимологически восходит к слову «көк» − «небо, высшее, божественное». Казахи считали кюй «шепотом Тенгри» и почитали кюйши – избранных музыкантов, способных услышать этот шепот, донести его до обычных людей. В ХХ веке в результате голодоморов, вызванных ими откочевок, подавления восстаний, репрессий, войны, казахи оказались меньшинством на родной земле. Вместе с казахским народом было обескровлено и его традиционное искусство. Более того, музыканты и поэты часто преследовались властью как носители классово чуждой идеологии. В 1934 году в Алматы несколько молодых музыкантов, пытаясь сохранить и развить в духе времени казахскую музыку, организовали домбровый оркестр, который позднее вырос в Оркестр имени Курмангазы. Этот оркестр имел успех не только у публики, но и у власти, как пример удачной реализации концепции Сталина «национального по форме и социалистического по содержанию» искусства. Обратите внимание: первая декада − десятидневный фестиваль − казахского искусства и литературы в Москве состоялась в 1936 году, когда казахи еще не пришли в себя от голодомора. Советской идеологии нужно было демонстрировать расцвет национальностей при новой власти. Вскоре стали появляться и другие оркестры казахских народных инструментов. Государственная система музыкального образования стала готовить музыкантов для оркестров, со временем появились особые факультеты народных инструментов, готовившие музыкантов-народников. Казалось бы, все это можно только приветствовать, советское государство поддержало, институционализировало, открыло невиданные ранее перспективы развития для казахской музыки... Но дьявол кроется в деталях.
Оркестр имени Курмангазы ориентировался на созданный в конце ХІХ века оркестр имени Андреева. В этом оркестре, первоначально Кружке любителей игры на балалайках, позднее Императорский Великорусский оркестр, модифицированные русские народные инструменты – гусли, балалайки, домры – были объединены по принципу симфонического оркестра. Но русская традиционная музыка преследовалась и уничтожалась православной церковью на протяжении многих веков как язычество. Трудно сказать, каким был ее уровень когда-то, но в ХІХ веке в России существовали два отдельных института: высокая классика, заимствованная из Европы и патронировавшаяся аристократией, и фольклор − крестьянский, городской. Разрыв был настолько огромен, что организатор кружка подвергался насмешкам родственников и друзей за свою любовь к балалайке, которая, кстати, появилась в России лишь в конце 17 века и имела до модификации округлый корпус. Федор Шаляпин после концерта оркестра обратился к Андрееву: «Ты пригрел у своего доброго, тёплого сердца сиротинку балалайку». Под влиянием оркестра балалайка стала не просто популярной среди просвещенной публики, обучение игре на ней было введено в войсках. Андреевский оркестр был инструментом конструирования национальности: европейски образованные музыканты собирали осколки давно разрушенной исконной традиции и выстраивали нечто небывалое ранее. Поскольку собственного репертуара не было, за исключением нескольких народных песен и примитивных наигрышей, то оркестр исполнял в основном произведения самого Андреева, европейскую и европейского образца русскую классику, а также городской фольклор. Совершенно другая ситуация была в казахской музыке: кроме общего высокого музыкального уровня, когда каждый второй пел, каждый третий играл на домбре, существовали древние профессиональные школы, музыканты, полностью посвящавшие свою жизнь тонкостям музыкального исполнительства и сочинительства, огромный репертуар: после всех потерь ХХ века с легкостью был сформирован CD-альбом «Тысяча казахских кюев» (2010), множество произведений осталось «за бортом», не вошли в заявленную тысячу. Коротко говоря, кроме фольклора у казахов существовала собственная классика, традиционное профессиональное искусство. Домбровый оркестр самим фактом подражания Андреевскому, позиционировал казахскую музыку как фольклор, как народную музыку, т.е. как нечто заведомо более низкое по сравнению с европейской классикой, профессиональной музыкой вообще. Для оркестра казахские инструменты были модифицированы, особенно кардинально изменился кобыз. О политическом контексте, в котором создавался оркестр, красноречиво свидетельствует фраза Ахмет Жубанова в книге ""Струны столетий"": ""Демонстрация домбры на коллегии Наркомпроса республики ошеломила всех присутствующих. Особенно бурно аплодировали те работники Наркомпроса, которые незадолго перед этим смеялись над нашей затеей, считая домбру инструментом, не поддающимся усовершенствованию, обреченным на отмирание вместе с отмиранием феодализма, поскольку-де она, домбра, была ""идейным оружием феодального уклада жизни"". Оркестр игнорировал, разрушал принципиально сольную природу казахской музыки. Ради оркестрового исполнения домбровое искусство упростили и технически, и содержательно. Один только пример: для казахской традиционной музыки было характерно микро интонирование, использовались ¼, 1/8, 1/16 ноты. Лады на грифе домбры крепились независимо друг от друга и могли передвигаться под конкретный кюй, т.е. каждый кюй по сути имел собственную ладовую систему. От всего этого отказались в оркестре. Так что, когда Таласбек в 1970-1980-ые говорил о микро интонировании в казахской музыке, это воспринималось как его фантазия. Только сейчас его утверждения подтверждаются записями музыкальных экспедиций из глубинки СУАР Китая, на которую не оказало влияние советское музыкальное образование. Точно так же было упрощен, унифицирован метроритм, техника игры на домбре. И содержание тоже упрощалось, выхолащивалось. В основном оркестр исполнял русскую и европейскую классику, советскую музыку. Из казахской в основном исполнялся Курмангазы, еще несколько кюйши одной школы с ним. Географически это Букеевская орда. Причем многие произведения других кюйши, например, Даулеткерея, были приписаны Курмангазы. Почему именно ему? Потому что бурная жизнь Курмангазы в конфликте с властями и баями позволяла сконструировать образ, подходящий для советской идеологии. Например, у него есть кюй «Лаушке». Было объявлено, что этот кюй посвящен рабочему-революционеру Лавочкину, с которым Курмангазы якобы подружился в тюрьме. На самом деле, кюй был посвящен русскому купцу, который хорошо относился к кюйши и временами поддерживал его. И вторая причина – динамизм и напор, присущий кюям Курмангазы, хорошо подходил для оркестрового исполнения. Кюи других школ и регионов в репертуаре оркестра, а следовательно, в официальном музыкальном образовании практически не были представлены. Почему казахские музыканты согласились на это? Ответ простой – они прошли вместе со всем казахским народом через голодоморы и репрессии. Например, великая Дина Нурпеисова приехала в Алматы в возрасте 73 лет. Когда-то до революции она выступала на ярмарках, и казахи бросали к ее ногам свертки жемчуга, браслеты и кольца, пачки денег. В годы голодомора она, чтобы спасти внуков, собирала дикое просо. А когда выступала на ярмарке, к ее ногам слушатели, которые сами голодали, могли положить кусок хлеба или курт. И конечно она понимала, что возврата к прежней жизни не будет, что смириться, выступать с оркестром в Алматы – это единственный способ сохранить традицию, которую она унаследовала от Даулеткерея и Курмангазы, десятка других ее предшественников. В оркестре постоянно шли постоянные репрессии. Сейчас мы помним Ахмета Жубанова как основателя оркестра. Но на самом деле их было несколько человек, в основном чингизиды, двое из них погибли в репрессиях: родственник Даулеткерея Махамбет Букейханов (был сослан на три года в 1928 и расстрелян в 1937) и родственник великого певца Мухита Камбар Медетов. Ахмет тоже был затронут репрессиями: его старший брат Кудайберген Жубанов, первый казахский профессиональный лингвист, был расстрелян в 1938 году. Словом, выбора у музыкантов не было. Музыканты, выступавшие в оркестре позднее, получали официальное музыкальное образование. Они стали называться «народниками, считались исполнителями фольклора. Акцент в образовании делался на исполнении европейских и русских «вещей», выпускник консерватории имел в репертуаре 20-30 кюев против 200-300 кюев в репертуаре кюйши. Но дело даже не в количестве. Есть принципиальная разница между фольклором и традиционной музыкой, потому что само слово «традиция» означает передачу неких знаний. Казахские кюйши посвящали всю жизнь получению и передаче музыкальных знаний. Но в советской идеологии дореволюционных кюйши принято было называть «самородками», что подразумевает: человек случайно родился талантливым и как-то сам, понемногу, пока пас отару овец, научился играть на инструменте. Наследие великих музыкантов превратилось в фольклор – материал для советских композиторов. Например, командированный в 1933 году в Казахстан «из центра» композитор Евгений Брусиловский стал автором первых казахских опер. Первую из опер «Кыз Жибек» он написал уже в 1934 году, она составлена из казахских песен: например, ария Кыз-Жибек – это песня репрессированного Укили Ибрая «Гакку». Поскольку Е. Брусиловский казахского «материала» не знал, рядом с ним во время работы сидели традиционные певцы, превратившиеся в оперных, и подсказывали, какую песню можно использовать в том или ином эпизоде. Справедливости ради надо сказать, что композитор в своих трудах не забывал выразить уважение к репрессированным казахским музыкантам, которых знал. Те музыканты, которые остались в регионах, были статусом еще ниже «народников». Выжившие в голодомор, репрессии и войны музыканты традиционного типа оказались вытеснены на маргиналии, они могли демонстрировать свое искусство только в близком кругу или если даже попадали на сцену, то это считалось самодеятельностью. Зарабатывать на жизнь искусством, готовить официально учеников они не имели права. Они обязательно должны были работать в «социалистическом народном хозяйстве», иначе им грозило уголовное наказание за тунеядство. Отныне они были для власти и слушателей не профессиональными музыкантами, продолжателями своих школ, а чабанами, колхозниками, полеводами, бухгалтерами и агрономами, на досуге увлекавшимися фольклором. В казахском этномузыковедении только в 1970-ые годы через сорок лет появился термин «устное профессиональное искусство». Но для государства, для чиновников домбристы, кобызисты, казахские певцы все еще «народники» - второй сорт по сравнению с исполнителями европейской классики. Когда в 2013 году в Казахстане открылось радио «Классика», его основателю и директору Раушан Джуманиязовой долго пришлось доказывать начальству необходимость нашей передачи «Тылсым перне» о традиционной казахской музыке. В голове у телерадио-чиновников не укладывалось: какое отношение к классике может иметь казахская «народная» музыка. Такова сила колониальных стереотипов. И если этот стереотип постепенно можно изменить, то гораздо трагичнее то, что казахская музыка потеряла квалифицированного слушателя. Т. Асемкулов в одном из интервью объясняет: «В свое время дирижеры оркестра, чтобы подчеркнуть мощь, динамику кюев Курмангазы, очень сильно увеличили темп. Потом этот темп перешел в сольное исполнительство. Домбристы стали быстро исполнять, понимаете. Со временем быстрое исполнение стали выдавать за высокую технику. То есть, как мы видим, произошла банальная подмена понятий. Вот этот новый стиль создавал новые технические трудности для исполнителя. При высоком темпе смазывается и вследствие этого даже как бы исчезает ритмический рисунок, да и вообще вся мелодия». Таласбек так объяснял суть явления: представьте, что человек вместо фразы «я тебя люблю» быстро произносит невнятное «тблбл». В среднем темп исполнения увеличился в 2-3, а то и в 4 раза по сравнению с записями Дины. Таласбек таких домбристов прозвал в свое время «пулеметчиками», а их игру сравнивал с «мастурбацией зайца». И публика, которая сейчас просто не понимает языка казахской музыки, с восторгом приветствует именно «пулеметчиков». Поменялся звуковой идеал, а микроинтонирование стало восприниматься как фальшь. «У слушателя огрубел слух, и соответственно он воспринимает только блестящие произведения, только яркое исполнение». Такова ситуация со школой кюя, которая в советское время оказалась в привилегированной позиции, и которая для абсолютного большинства и есть казахская музыка как таковая. Но «в казахской инструментальной музыке существуют две великие школы – стиль «төкпе» (от слова «төгу» − лить, кистевая техника игры – З.Н.) и стиль «шертпе» (от слова «шерту» − щелкать, пальцевая техника, фингер стайл – З.Н.). Термины эти условны. Старики называли «токпе» кюями «ала байрақ» – кюями «пестро-красного знамени», т. е. это воинская музыка, музыка воинской касты. Кюи «шертпе» называли «нақысты күйлер». Условно это выражение можно перевести как «колористичные кюи». Токпе кюй распространен в Западном Казахстане, частично в диаспорах в Иране, Афганистане, Туркменистане, России, Узбекистане и Турции. Стиль «шертпе» охватывает Центральный, Восточный, Южный (Семиречье) и Северный Казахстан, то есть от Оренбурга и до берегов Сырдарьи... Термин западная школа, «токпе кюй», как мы уже отмечали, является условным. Западная школа сама по себе неоднородна. Там много школ, и ни одна не похожа, не повторяет другую». Например, мангыстауская школа сильно отличается от Бокеевской, представителями которой являлись Даулеткерей, Курмангазы, Дина. Тоже самое и аральская школа или школа Казангапа. Но когда современный домбрист, получивший официальное образование, «исполняет Казангапа, вы слышите не Казангапа, вы слышите Курмангазы». Нет аутентичности. Таласбек поясняет свою мысль: аутентичность – это не просто исполнение домбрового кюя на домбре. «Она связана с такими вещами, как знание техники определенной традиционной школы, присущих только ей законов формообразования, развития, индивидуального стиля крупных мастеров этой школы, логики их творческого мышления... Я слышал много разных интерпретаций Казангапа. И почти со всеми не согласен, потому что почти все они «творчески» подошли к его кюям, точнее, отошли от исполнительских канонов школы. Современная темповая техника негативно отразилась на этих интерпретациях. С. Балмагамбетов постиг тайну Казангапа, и теперь мы знаем, что кюй Казангапа – это неяркая песнь. И в этой неяркости скрыта страшная метафизическая тайна бытия. Мощь, гигантский напор, характерные для кюев Курмангазы, здесь неуместны. Современный исполнитель, даже если снизит темп исполнения, все равно ничего не добьется, потому что в его исполнении высокая динамика, несвойственная для кюев Казангапа, будет существовать латентно, скрытно». Хочу уточнить, что Таласбек не был против оркестров, он отмечал, что оркестр передает напор и динамизм кюев Курмангазы, характер некоторых кюев Даулеткерея и Сугура лучше раскрывается при ансамблевом исполнении, но оркестр не должен абсолютизироваться, в первую очередь музыкантов нужно формировать как сольников, надо сохранять и развивать региональные школы в их многообразии. Сам Таласбек представлял школу шертпе кюя Восточного и Центрального Казахстана. Эта традиция восходит к полководцу и кюйши 13 века Кет-Буге и еще дальше, вглубь веков. В советское время ее постигла горькая судьба: в репертуар оркестров и соответственно в учебную программу вошли 2-3 кюя Таттимбета и 1 кюй Токи. Причина не только в том, что основатели оркестра имени Курмангазы, выходцы из западного Казахстана плохо знали другие школы. Основная причина была идеологическая. Один из главных представителей этой школы композитор 18 века Байжигит был личным домбристом Аблай-хана, другой – Таттимбет – представителем родовой знати, волостным, имел чин сотника в царское время. Дед Таласбека Жунусбай Стамбаев, с которого мы начали разговор, тоже был сыном богатого бия. Благодаря богатству отца, в детстве и юности он беспрепятственно занимался только музыкой. Его главные учителя – кюйши Бодау, Кызай, Иләпі. Отец Жунусбая поочередно приглашал этих известных, но живших бедно кюйши вместе с семьями в свой аул. Его богатство позволило молодому Жунусбаю постоянно ездить по степи для продолжения обучения, для выступлений и соревнований. Сын бия мог выменять кобылу с жеребенком за право разучить новый кюй. Жунусбай участвовал в вооруженном сопротивлении Советской власти, возможно, был в составе милиции Алаш-Орды, была арестован в начале 1920-х, 23 года отбыл в ГУЛАГе, потом десять лет находился под надзором ГПУ. В 1950-ые он дважды приезжал в Алматы, чтобы записать для архивов радио или академии наук свой репертуар – более трехсот кюев. Но ему тогда отказали. Я хотела узнать, в чем конкретно он обвинялся в начале 1920-х, задолго до начала насильственной коллективизации, но архивный розыск пока не дал результатов. И вот такой человек в 1955 усыновил внука, чтобы передать ему полученное от учителей. При этом перед смертью он запретил внуку учиться в консерватории, зарабатывать на жизнь музыкой. Потому что он слушал радио, слишком хорошо знал, что из себя представляет официальная «казахская народная музыка». И хотел, чтобы внук в чистоте сохранил полученную традицию. Таласбек сохранил наследие Байжигита, был единственным его исполнителем после деда, в семнадцать лет выпустил сольный диск с кюями Байжигита на всесоюзной студии «Мелодия». Ректор консерватории, композитор Еркегали Рахмадиев являлся прямым потомком Байжигита в восьмом колене и предложил Таласбеку взять его в консерваторию без вступительных экзаменов. Об этой ситуации Таласбек говорил: «Соблазн был велик... Я посоветовался с домбристом Жаркыном-аға (Шакаримом), который сам закончил консерваторию. Он сказал мне: «Не ходи, Талас. Тебя сломают, изуродуют. Ты потеряешь свое искусство, потеряешь самого себя. Тебя превратят в музыкального робота». Позднее, работая в консерватории, я много раз наблюдал, как это делали с уже вполне сформировавшимися студентами-домбристами, особенно с Мангышлака. Многих сломали, некоторые бросили учебу» ...
Таласбек два года отучился в мединституте, потом ушел в армию, после демобилизации работал в ауле в комсомольско-молодежной овцеводческой бригаде, поступил на филологию в КазПИ, хотел заниматься устным наследием, но его жестко пресекли: его подход к интерпретации эпоса не соответствовал историческому материализму. Реабилитации традиционной казахской музыки он посвятил всю свою жизнь: вернул казахам 34 забытых кюя, самый древний из которых относится к XIII в., создавал собственные кюи, написал восемь томов прозы и исследований, консультировал этномузыковедов, негласно обучал молодых музыкантов тонкостям традиционного исполнительства. Одна из наиболее важных статей, которую Таласбеку удалось опубликовать в 1989 году в журнале «Жұлдыз» «ДОМБЫРАҒА ТІЛ БІТСЕ. Қазақтың байырғы музыкалық терминологиясы хақында», в которой он описывает традиционную музыкальную терминологию. Но с 1930-х и до сих пор в широком употреблении остается заимствованная европейская. От читателей статьи вот уже 40 лет идут удивленные комментарии: а что, у казахов были свои названия ладов, технических приемов, частей кюя? Настолько казахи привыкли к мысли, что у них не было никакого осмысления своей культуры. Мадина Тлостанова отмечает: «Деколониальность знания – это освобождение знания от навязанных модерностью/колониальностю принципов, правил, оптик и институтов, оставляющих за бортом все иные эпистемы и субъектности». Это как раз то, чему посвятил себя Таласбек, к чему его готовил его дед и другие учителя. Таласбек тридцать лет жил в Алматы без собственного жилья, часто без прописки (что было чревато наказанием в советское время), без работы. Зарабатывал на жизнь переводами, изготовлением домбр, что также приходилось делать негласно. Его почти не публиковали: одна-две статьи или рассказа в несколько лет. И эта ситуация продолжалась и в постсоветском Казахстане. По-настоящему он раскрылся в 2000-ые. Он создавал кюи, писал романы и киносценарии, исследования по музыке, истории, этнографии, мифологии, литературной и музыкальной критике, переводил с русского на казахский и наоборот, экспериментировал с домбрами. В статье «Будущее искусства кюя» Таласбек делится своими размышлениями по поводу воспитания домбриста у казахов: «В казахской традиции не было вычлененной разветвленной системы музыкальной педагогики, как то имеет место в Европе. Обучение кюю, песне или жыру было элементом общей системы воспитания. Главное богатство – человек, главная цель – воспитание духовной личности». Этот подход к воспитанию кюйши и позволил Таласбеку быть таким многогранным. Во всех своих ипостасях Таласбек Асемкулов в негласном рейтинге был одним из лучших в стране, но при этом оставался малоизвестен широкой публике. Он не смог реализоваться до конца ни в одной из своих ипостасей, слишком сильным было сопротивление. Он сохранил 34 кюя, но в юности его репертуар составлял около 80 кюев, они не были записаны, и сам он забыл их, потому что иногда годами не брал в руки домбру, чувствуя свою невостребованность. Но все же сейчас в музыкальном образовании появились классы, посвященные отдельным школам, в т.ч. шертпе-кюю, остались домбристы, которые сохраняют его репертуар, стремятся играть вдумчиво, как учил он, остались исследователи, на которых он повлиял. Музыковед Раушан Джуманиязова писала: «Я раскрою один секрет, который на самом деле – секрет Полишинеля. Источником большинства лучших работ по казахской музыке последних десятилетий является один человек, наш современник...Это Таласбек Асемкулов. Странный, энциклопедических знаний, эпатажный и скромный одновременно, расточительный во множестве своих талантов и ипостасей, он по-стивенкинговски «сиял». Ему принадлежат пронзительные строки о казахских музыкантах-кшатриях: «музыкой может считаться лишь то, что может стоять рядом со смертью», «казахский язык в образцах старинной поэзии, как и казахская музыка, напоминает куски огненной лавы».
В первой лекции «Народная или традиционная...» мы уже затронули вопрос идеологической подтасовки, которая была произведена советской идеологией в сталинский период. Казахское традиционное искусство, имеющее по меньшей мере тысячелетнюю историю, получило статус фольклора, народной культуры. Это смешение двух разных понятий продолжается и сейчас. В википедии даются следующие определения, по сути, близкие историческому материализму: «Народная культура — традиционная культура, субъектом которой является народ — коллективная личность», «Фолькло́р (англ. folk-lore — «народная мудрость») — устное словесное и музыкальное народное творчество. В более широком смысле включает все проявления духовной (а иногда и материальной) культуры народа — язык, верования, обряды, ремёсла...» Мы также говорили, что в 1970-ые годы в казахстанском этномузыковедении в противовес этой подтасовке появляется концепция устного профессионального искусства, народно-профессионального искусства, согласно которой у казахов из фольклора развилось профессиональное искусство. Таласбека не устраивала трактовка казахской музыки как фольклора. Он был категорически против понятия «народная музыка». «Коллективная личность, «народ как субъект» действительно странные определения, когда речь идет об искусстве. «Как вы это себе представляете, собралась тысяча человек, и вместе сочиняют песню?» − говорил Таласбек. Концепция казахстанских этномузыковедов позднесоветского периода его также не устраивала. В своем дневнике он писал: «Теория так называемой народно-профессиональной музыки ущербна по своей природе. Обычно, в мировой практике пласт музыки, называемый народным, состоит из архаичной музыки, которая по своей природе фатально неспособна к развитию... В архаичной музыке главное не музыкальная мысль, а космогоническое событие, онтологическая мораль... Неизвестно, когда произошел качественный скачок в развитии музыки. Трудно, очень трудно вывести развитие современной высокоразвитой профессиональной музыки из архаической... Принцип анализа, «придуманный» этномузыковедами 1970-80-х, является ущербным, совершенно непригодным для анализа профессиональной музыки. Разбор на части, дробление на молекулы и атомы ничего не объясняет. Действительно, вся музыка состоит из кирпичей, элементов. Но вопрос ведь не в кирпичах, а в их компоновке, в архитектурном проекте (точнее, в душе музыки). Звук сам по себе – это просто звук, но, когда соседствуют несколько звуков, они обретают системное свойство. Компоновка профессиональной светской музыки (музыки как таковой) – это не просто трудная, усложненная композиция (в таком случае можно было бы простым усложнением гармонических форм достигнуть прекрасных произведений), эта сложность принципиально другая, сложность другого порядка. Не разные степени трудности одного порядка, а принципиально, онтологически разные вещи. Этномузыковеды, бесконечно расчленяя музыку, действительно дошли до атомов, но и только. Они не могут объяснить «биологию», психологию, этику, этос профессиональной музыки. Это простой редукционизм». Эти размышления Таласбека условно можно датировать 1990 годами. В более поздний период Таласбек в своих размышлениях о природе казахской музыке стал опираться на концепцию катастрофизма и концепцию Ф.Шюона о кастовом происхождении народов. Эти темы он затрагивал в беседах с музыковедом Раушан Джуманизовой. Таласбек обладал огромной музыкальной эрудицией (насколько это вообще было возможно для человека, формировавшегося в советское время и не имевшего доступа к спецхранам и т.п. закрытым источникам информации). Он не только прекрасно знал казахскую, тюркскую музыкальную традицию, но и европейскую классику и фольклор, а также фрагментарно (из-за малодоступности информации) иранскую и индийскую, прослеживал сходные архетипы в музыке соседних народов. Он глубоко чувствовал музыку, обладал удивительной интуицией, точность которой была подтверждена не один раз. И все эти знания побуждали его критически относится к эволюционизму, сделали убежденным сторонником катастрофизма, по крайней мере, в истории музыки, в истории человечества. Стоит пояснить, в соответствии с традиционализмом, представителем которого является Ф. Шюон что каста (или варна) – это не только система профессиональной специализации, передачи профессиональных знаний в рамках семейной (родовой) преемственности поколений. Это и особый менталитет, образ жизни, связанные с мифоритуальным оформлением Пути представителя касты. Если взглянуть на Индию – классический образец кастового устройства, то в сохраняющих архаический образ жизни социальных слоях до сих пор существует тождество каста – профессия – этнос с собственным языком и укладом жизни». Р. Джуманиязова в статье «Традиционная музыка как искусство воинской касты» отмечает: «Официальная история музыки постулирует эволюционную теорию, когда профессиональная традиция рассматривается как результат развития фольклорного творчества. Т. Асемкулов убежден, что профессиональная казахская музыка возникает не из фольклора, не из обрядовой музыки. Это автономные художественные явления. История общественных явлений, история искусств не всегда сопутствуют истории эволюции видов. Иногда, и даже в большинстве случаев, культура может откатываться назад, на многие века, даже тысячелетия. Поэтому деление музыкальной культуры на фольклор и профессиональную музыку является искусственным, ложным. Это следствие незнания традиции, элементарных законов эволюции. Допустим, если фольклор является истоком профессиональной музыки, тогда, по закону эволюции, фольклор, породив профессиональную музыку, должен был давно отмереть за ненадобностью. Но он продолжает существовать. Более того, по ряду признаков он даже эволюционирует, превращаясь в какой-то новый тип фольклорного творчества...» В мифологии, философии, музыковедении есть разные варианты объяснения, как возникла музыка. Например, есть ученые, которые отдавали первенство ритму, считая его основой появления музыки. В Советском Союзе конечно была популярна идея формирования музыки в процессеколлективного труда, мол, музыка задавала ритм согласованным физическим действиям. Даже казахской музыке, абсолютно сольной по природе, долгое время пытались навязать жанр «трудовых песен». Дарвинисты считают, что музыка появилась как особая форма живой природы, в результате соперничества самцов. Есть гипотеза возникновения музыки из речи, и гипотеза о том, что музыка возникает раньше речи. По мнению Таласбека, все эти гипотезы имеют общий недостаток. Все они основаны на идее необратимости развития культуры. Как будто ццивилизация, возникнув один раз, развивается неизменно, постепенно и линейно. Таласбек был категорически против такого подхода. Он считал, что мировая наука выстроена на антагонизме униформизма и катастрофизма. И сам был сторонником катастрофизма. То есть был убежден, что мир, который мы знаем, уничтожался, разрушался, порой до основания, и вновь возрождался много раз, бесчисленное количество раз. Эти прежние цивилизации были ничуть не хуже нашей. Более того, они наверняка были высокоразвитыми цивилизациями... Во время великих катаклизмов, катастроф, потрясений погибали и культуры. Иногда они исчезали бесследно, иногда от них оставались отдельные фрагменты, и во время следующего этапа истории эти фрагменты могли порождать удивительные формы. Мировая музыкальная культура – это мозаика, состоящая из разных несинхронно развитых или развивающихся музыкальных культур... Последние пару веков прогрессивные люди так или иначе исповедовали дарвинизм. Но ведь дарвинизм «работает» только в относительно благополучные времена. А это благополучие существовало не всегда. Учение Ч. Дарвина может объяснить только то, что происходило в промежутке между двумя катастрофами... Поэтому те музыкальные культуры, которые мы видим – это не результат какого-то «развития». Это то, что осталось, что уцелело во время великих катастроф от прежних культур. Какое отношение кастовая система имеет отношение к истории музыки? Каст, точнее варн, как известно, было четыре. Первая из них – это брахманы-жрецы, находящиеся в поисках Абсолюта. Следующая каста – кшатрии, представляющие воинское и царское сословие. После воинов-кшатриев следуют вайшьи. Это производители материальных ценностей, земледельцы, ремесленники, купцы. И, наконец, четвертая каста – шудры, то есть неприкасаемые. По мнению Таласбека, большой ошибкой является отноешение к этой системе как ущербной, фашистской, отсталой. Точнее, она может быть такой в социальной практике. Но каста – это не только общественное или классовое положение. Каста – это структура сознания. Кастовое деление, скорее, можно сопоставить с современным учением о психологических типах: кто-то предпочитает работать со знаковыми системами, кто-то – с людьми, а кто-то – с материальными предметами или деньгами. Это и есть каста в своей основе. Брахманы стоят выше всего земного, в том числе – выше музыки. Они напрямую сообщаются с Абсолютом, находятся в нем. Для них музыка, в самом оптимистичном случае, – это теология в звуках. Среди западноевропейских композиторов к брахманскому пониманию музыки ближе всех стоит органист И. Бах со своими духовными кантатами. Могут ли вайшьи и шудры создавать музыку? Могут. Возможно, существующие сегодня теории возникновения музыки из трудовых ритмов больше всего подходят именно для творчества вайшьев и шудр. Возможно, музыка, которую мы называем развлекательной, имеет истоками искусство вайшьев и шудр. Музыка же кшатриев иная по определению. Кшатрии владеют средним уровнем космоса, они живут высокими страстями, в борьбе центростремительной и центробежной сил. Музыка – это адекватный способ выразить их мир. Профессиональная музыка возникает не из фольклора, не из обрядовой музыки, попевок и прочего, а из экзистенциального опыта войны. Кшатрийская музыка – это высший род музыки. Потому, что ее создавал Воин. Воин, который уже в подростковом возрасте прошел инициацию смертью, который каждый день умирает или убивает, сознание которого постоянно находится в пограничном состоянии между Жизнью и Смертью, между Любовью и Смертью. Такой воин создает вневременную музыку, в быту называемую великой. С другой стороны, учитывая, что каста – это тип сознания, практически всех великих композиторов мира я бы назвал кшатриями. Две темы воинской инициации – Любовь и Смерть – выражаются в музыке кшатриев. Музыкой может считаться лишь то, что может стоять рядом со смертью». Об этих вещах Таласбек рассуждает во вступлении к нанаписанной книге «Альтернативная история казахской музыки». Можно соглашаться с таким подходом или нет. Но нельзя не признать интеллектуальное мужество Таласбека, который всегда мыслил свободно и мог опираться на концепции, в современной науке считающиеся маргинальными. Вероятно, он понимал, что концепция непрерывной эволюции человек, культуры неизбежно позиционирует казахскую музыку (и литературу) как отсталую. Таласбек разрушал штамп модерности «традиция и современность». *** Мысль о том, что тюрки, конная цивилизация Великой степи – это воинская каста, воинское сословие Евразии, постепенно становится общим местом, по крайней мере для казахов. Но первым ее высказал, насколько мне известно, Таласбек, а оформили мы вместе в статье «Последний поход Кет-Буги: сакральная миссия кочевой цивилизации», написанной в 2000 году. Соответственно, казахская традиционная музыка и поэзия в понимании Таласбека воинская по своему происхождению. Основные ее создатели, как доказал Едиге Турсунов еще в 1970-ые годы, это жырау, т.е. эпические сказители, и сал-серэ – члены элитных воинских братств. В 19 веке, когда казахи становятся колонизированным народом, развитие казахского искусства не останавливается. Оно принимает новое направление. Например, о Биржан-сале Таласбек говорит так: «Историю казахского вокального искусства можно разделить на два периода: до Биржана и после него. До 19 века для казахской песни характерна ровная мелодия, без больших перепадов, обычно без кульминации, без особого драматизма. Это преимущественно мажорного наклонения благородные красивые песни. Но это благородство становится как бы оковами песни, потому что благородство предполагает спокойствие, сдержанность. Выплеск эмоций, крик здесь немыслим. Такая песня была неспособна к развитию, отсутствие высоких верхов было обусловлено самой ее природой. Биржан-сал создает принципиально новый тип аркинской песни, в которой находят выражение его потрясающая экспрессивность, его высокое Эго, жажда познания мира, жажда славы. Подобно тому, как итальянская опера возникает прежде всего как состязание высоких голосов, из соперничества певцов, так и новая казахская песня появляется благодаря особенностям творческой натуры Биржана. Его младший современник Ахан-серэ, например лиричнее, красивее, кульминация песен Ахана мастерски сделана в пределах традиции, но именно Биржан формирует новый тип песни – музыкальную драму со сложной, разработанной мелодией, яркой, экспрессивной, мощной кульминацией. Эта новая песня носит ярко выраженный личный характер, она возникает в колониальный период, когда на первый план в искусстве выходит индивидуализм, эго – в хорошем смысле, талант композитора» (пока неизданный 7 том Сочинений Таласбека). Или вот как Таласбек характеризует творчество Дины Нурпеисовой: «Для Дины главное − красота звука. Она то и дело бросает одну мелодическую линию, берется за другую с любого места, делает паузу и после паузы начинает новую линию. Возможно, она опускает в этот момент связку. Заметна ломаность ритма, ритмическая несостыковка, но колористически Дина всегда безупречна. Никто не смог перенять ее уникальный стиль. У ней учились многие – лично и по записям, но она так и осталась единственным представителем созданной ею школы. Дина вольно интерпретировала и свои, и чужие кюи, никогда не повторялась. Это иногда приводило к комичным ситуациям. А. Затаевич нотирует кюй в исполнении Дины, потом просит еще раз сыграть, чтобы проверить запись, Дина играет новый вариант, Затаевич поражается и возмущается: «Вы же только что сыграли по-другому!», но Дина отбрасывает все претензии. Творчество Дины − авангардистский эксперимент в казахской музыке. Дина не боится нарушать фундаментальный закон музыки – единство ритма. Она постоянно прерывает его. Это не значит, что у ней вообще нет ритмического рисунка. Он конечно присутствует, ведь это скелет, на котором держится колористика. Без ритмической линии музыка – это лишь набор звуков. Но ритмическую преемственность Дина постоянно нарушает. Прерывает одну линию, перескакивает на другую. Для нее нет логико-временной последовательности. Слушая ее, невольно вспоминаешь выражение Ошо: «Мастер живет в моменте». Дина хулиганит, но окраска звука всегда превосходна. Ее исполнение держится не на ритмической преемственности, ритмической цельности, а на совсем другой закономерности. Дина открывает какую-то новую эстетическую правду, эстетический принцип. Предыдущий звук оставляет экспрессивный, эмоциональный след, и он смыкается с последующим звуком. Дина не боится нарушать канон, такой эксцентричной манеры игры в казахской музыке больше ни у кого нет. Дину, наверное, можно сравнить со Шнитке, для творчества которого также характерны невероятные, невозможные комбинации звуков. Дину невозможно повторить, поэтому она осталась единственным представителем созданной ею школы – ее пионером, классиком и последним мастером. Этот стиль на ней и закончился. Домбристы исполняют кюи Дины, ее репертуар, но они обычно боятся отойти от канонов, поэтому получается нечто другое». Таласбек разрушает представление о традиции как архаической догме. В восприятии Таласбека история казахской музыки перестает быть унылой аллеей великих деятелей прошлого, застывших в своем безупречном величии. Она превращается в живой процесс, продолжавшийся например на местах такими мастерами как Сугур Алиев и Боранкул Кошмагамбетов до их ухода (а Боранкул умер в 2006 (2007?) году. Гении не только экспериментируют, свободно выражают свою индивидуальность, но и ошибаются, и саморефлексируют, и хулиганят. Например, Таласбек говорит: «Кюй Казангапа – это неяркая песнь. И в этой неяркости скрыта страшная метафизическая тайна бытия...» При этом, объясняя название кюя «Шынаяқ тастар» − «Кидание чашки» Таласбек передает историю кюя: Казангап играл в гостях, разливавшая чай женщина так заслушалась, что забыла налить ему чай, не прерывая исполнения, кюйши пару раз указал ей на свою опустевшую чашку, а потом во время паузы метнул ее, закрутив волчком, через весь стол, так что чашка опустилась прямо перед женщиной. «Это хулиганство мастера, гениально то, что эта пауза в кюе художественно оправданна», − говорил Таласбек. *** После ряда экспериментов 1930-40-х годов для оркестра были созданы модернизированные домбра и кобыз, которые уже не меняются, воспроизводились в неизменном виде на фабриках, в цехах, а сейчас индивидуальными мастерами. И в тоже время традиционные домбристы, такие как Магауя Хамзин и сам Таласбек, продолжали свои эксперименты над традиционным типом домбры, исходя из потребностей и возможностей своего времени. Это еще один пример сомнительности противопоставления модерности и традиции. Таласбек терпеть не мог так называемый «национальный костюм», требование «народникам» выступать на сцене только в «национальном костюме». Не только из эстетических соображений, но и из практических: жарко, душно, широченные вышитые рукава чапана мешают играть, огромный торе-калпак, надетый поверх тюбетейки, постоянно елозить на голове, угрожая упасть. Все это мешает сосредоточиться на игре. Таласбек передавал услышанное от деда: настоящие кюйши, если это не сал-серэ, играют перед публикой в неброской одежде, чтобы ничто не отвлекало слушателей от самой музыки, а чингизиды вообще слушали музыкантов, сидя за ширмой. Сам Таласбек предпочитал выходить на сцену в рубашке с закатанным рукавами, чапан купил лишь в 2004 году для Фестиваля мировых музыкальных культур во Франции по настоятельной просьбе организатора казахского концерта Сауле Аллес: «Праправнучка Таттимбета просит, это важнее, чем просьба ханской дочери», − сказал он тогда. Протест Таласбека против «национального костюма» − по сути протест против экзотизации, самоориентализации казахских музыкантов. Этот же протест стал причиной увольнения Таласбека из Музей музыкальных инструментов имени Ыхласа, одним из организаторов которого он был. История эта такова. На должность завхоза музея Таласбек был принят 10 сентября 1980 года приказом № 2/1, приказом №1 на работу был взят директор еще не существующего музея Жаркын Шакарим, вызвавший Таласа из аула. Таласбек написал интересные, живые воспоминания о том, как создавался музей, о казусах, связанных с этой работой. Весной 1981 года, когда музей открылся, Таласбек работал в нем исследователем, экскурсоводом, параллельно музыкальным мастером (делал домбры в экспериментальной мастерской) и на общественных началах (т.е. без оплаты), как и все сотрудники музея, солистом фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген», побывал на гастролях в Югославии (зарубежные гастроли были тогда верхом успеха для советских музыкантов). Казалось бы, открывались прекрасные перспективы, но в 1983 года Таласбек был уволен из музея по собственному желанию. Следующая запись в трудовой книжке о приеме на должность редактора в издательство «Жазушы» датирована 28 декабря 1984 года, т.е. Талас уходил из Музея «в никуда», больше полутора лет был безработным (фактически безработным он был только первый год после ухода из Музея, потом устроился в мастерскую музыкальной школы им. К.Байсеитовой, откуда ушел в издательство). Те, кто жил в советское время, знают, что это не только материальные трудности, но и трудности в отношениях с властью, постоянная угроза уголовной статьи «за тунеядство». Тем более для молодого казаха, не имеющего жилья и постоянной прописки в Алматы. Почему Таласбек ушел из Музея? Внешней причиной была неуживчивость, внутренней – гордость, несогласие с тем, какое место в советской официальной культуре занимала казахская традиционная музыка. Музей часто посещали иностранные гости, для них «Сазген» давал камерные концерты. Известно, как «носились» в советское время с иностранцами, особенно на окраинах. А Таласбек такое отношение отвергал. Он отказывался исполнять музыку предков перед американскими туристами в шортах, жующими жвачку, кладущими ноги на спинки передних кресел, а то и на сцену, мешая танцовщице ансамбля (тогда музей еще находился в неприспособленном здании, концерты давались в обычном помещении). Он одергивал интуристов, агрессивно игнорировавших правила музея и замечания сотрудниц. Он также жестко одергивал или язвил посетителей, делавших шовинистские замечания в духе «одна палка, два струна»). Таласбек в принципе не переносил применения физической силы к женщине, а когда откормленный интурист плечом отталкивал делающую ему замечание сотрудницу-казашку, то Таласбеку говорили: «Как ты можешь, это же иностранцы!», а он отвечал: «Я для них тоже иностранец!». Эти конфликты Таласбека, в основном с американцами, были настолько известны, что режиссер Болат Атабаев, работавший тогда гидом в «Интуристе», после увольнения Таласбека поинтересовался: «А где ваш сотрудник, который все время дерется с интуристами?». И еще Таласбек был в конфликте с прославленным музыковедом, профессором Болатом Сарыбаевым. Сейчас ошибочно считают, что частная коллекция древних музыкальных инструментов Б. Сарыбаева положена в основу экспозиции музея. Это не так. Точнее, так планировалось, приказ об открытии музея на основе коллекции уже был принят, но музыковед и государственная закупочная комиссия не договорились о цене. Коллекция эта уже в наше время была выкуплена одним из музеев Астаны у семьи покойного, а тогда, в 1980 году экспозиция Музея была сформирована из старинных инструментов, подаренных разными людьми, а также из инструментов, сделанных бригадой известного музыкального мастера Даркембая Шокпарова. Болат Шамгалиевич, конечно, сильно повлиял на концепцию музея и ансамбля, фактически руководил работой экспериментальной мастерской. Мастера должны были делать инструменты по его эскизам и чертежам. Но Таласбек, учившийся делать домбры еще в детстве, достигший в этом деле высокого уровня, был не согласен с указаниями Б. Сарыбаева, делал домбры по своему разумению, искал собственные пути совершенствовать инструмент, исходя из потребностей профессионального исполнительства. И если разобраться, то причина конфликта была еще глубже. Таласбек был в принципе против фольклорно-этнографических ансамблей того типа, который создал Б. Сарыбаев. Он считал, что эти ансамбли ориентированы на ищущих экзотику туристов, ведут к фольклоризации и реархаизации профессиональной казахской музыки. Многие инструменты, реконструированные Б. Сарыбаевым по результатам археологических раскопок, этнографических исследований, перенятые у родственных народов, на самом деле являются не музыкальными, а шумовыми, сигнальными, используемыми на войне и охоте. Часть инструментов имеет примитивную технику и репертуар, часть вообще «не строит». У казахов сильное развитие получили домбра и кобыз, традиция исполнения сыбызгы угасла, когда на Второй мировой войне погиб последний сильный носитель казахской традиции, сыбызгы лучше сохранилась у башкир, а жетыген у сибирских народов. Таласбек считал,что не надо включать все эти инструменты в ансамбль на равных, это ведет к деградации домбрового и кобызового исполнительства. Я ни в коем случае не оспариваю значение деятельности Б.Ш. Сарыбаева для казахской культуры, просто ученый подходил к вопросу как этнограф, а Таласбек – как музыкант, считавший, что казахская традиционная музыка должна развиваться как чисто музыкальный феномен, ориентироваться на элитарную публику, а не превращаться в этнографическое шоу. Сама идея превращения казахской музыки и музыкантов в музейные экспонаты была неприемлема для Таласбека. Возможно, для музея подход Болата Сарыбаева был более правилен. Наилучшим было бы создать две отдельные структуры... К тому же произошла сшибка двух сильных характеров. Таласбек хотел остаться в музее в качестве исследователя, освобожденного от работы с посетителями, но руководство такой вариант не устраивал... *** В автобиографическом романе «Талтүс» Таласбек подробно описывает один из технических приемов создания или реконструкции кюя, разрушая легенду об импровизационности казахского искусства, о том, что «акын что видит, о том и поет» (бытует мнение, что и кюйши творит как такой условный «акын»). А еще в романе он объясняет, что одни и те же кюи могли исполняться по-разному, среди кюйши был и те, для кого важен канон, аутеничность, замысел автора, и те, кто стремился по-своему интерпретировать кюй. Про такого кюйши главный герой Сабыт говорит: «Если бы твой Газиз-ата жил в старину, он был бы настоящим салом... Сал-серэ – это как артисты, которые играют концерты в аулах, объезжают их. И без преувеличения скажу, современные артисты не годятся даже воду поливать на руки сал-серэ...» После разговора с отцом он стал по-другому смотреть на манеру Газиза прижимать лады. На самом деле для Газиза существующий кюй – это лишь повод для фантазии. Он с любого места в любом кюе уходит в сторону, импровизирует. Конечно, он не отклоняется от основной мелодии. Но за какой бы кюй Газиз ни брался, в его исполнении он был и похож, и не похож на кюи, которые Аджигерей слышал от отца. Тот, да не тот. И самое чудесное, любую созданную воображением Газиза мелодию невозможно не признать кюем. Это совершенно новый кюй, который стоит на одном уровне со старым...» В статье «Домбыраға тіл бітсе. Қазақтың байырғы музыкалық терминологиясы хақында» − «Если домбра заговорит. О казахской древней музыкальной терминологии», опубликованной в журнале «Жұлдыз» в 1989, Таласбек описывает традиционную домбровую терминологию: традиционные названия частей кюя, технических приемов, ладов и т.д. Это было сенсацией в свое время, следом появилось несколько статей других авторов на эту тему. Если говорить современным языком, эта статья заявляла о существовании собственно казахского музыкального знания, к тому времени основательно забытого. Таласбек частично перевел эту статью на русский. Вот фрагмент, который меня в свое время всех удивил: «Лад «кәдесіз», т.е. «неуместный» используется в «есер тартыс» (от «есіру» − быть взбалмошным, вздорным) − нечто вроде музыкального каламбура или современного театра абсурда. В состязании побеждает тот, кто достиг самого фантастического несовмещения звуков, точнее – совмещения, но по законам абсурда и антигармонии... В этом виде искусства были свои классики и даже свои каноны. Более того, кюи должны были быть не просто абсурдными, но еще и красивыми. Слушатели поражались нелепости звука, извлекаемого на этом ладке, а развиваемая из этого звука несусветно глупая тема вызывала их дружный смех...» Сама возможность есер тартыса свидетельствует о высоком общем уровне казахской аудитории досоветского периода: понимать музыкальный юмор, абсурд, для этого нужна подготовка. У Таласбека есть много и других неожиданных идей по поводу традиционной культуры, например в дневнике: «Всякая культура постмодернистична до столкновения с другой культурой. Манасчи, кюйши запоминают блоками, архетипами, работают с ними». Раушан Джуманиязова недавно с горечью сказала: «Отношения империй со своими колониями или «сателлитами» складывались по-разному. Особенно наглядна разница на примере музыки 20 века. Так, Британия с огромным интересом относилась к Индии, ее культуре, стараясь понять ее специфику, логику. Индийская культура, философия, музыка стали мощным стимулом для появления новых течений в европейской и британской музыке (от идей, состояний, до конкретных элементов музыкального языка, ритмической, ладовой, интонационной организации, самой структуры произведения). Советский Союз − другая модель. Традиционные культуры размывались и насильственно трансформировались, упрощались, формируя «единственно верную» музыкальную культуру. Имея шанс получить беспрецедентное преимущество, советская культура пришла к профанации и примитивизации сокровищ». Таласбек был тем, кто рассказал казахам об их утерянных сокровищах, пытался хотя бы частично вернуть их казахам.
В 2000 году Таласбек написал статью «Күй өнерінің болашағы» − «Будущее искусства кюя». Толчком к написанию статьи был разговор с моей подругой, переехавшей жить в Париж в середине 1990-х. Она и ее сын занимались в школе при Парижской консерватории, и она получила возможность сравнить систему музыкального образования в СССР и во Франции. Вначале она была восхищена французским подходом и говорила так: «Советская система музыкального образования превращает ребенка в робота, лишает его детства, а во Франции всегда учитывается индивидуальность, внутренняя потребность обучающегося». Через пару лет она многое переосмыслила: «Во Франции всюду, в том числе и в образовании, царствует принцип «Все для удовольствия». С одной стороны, хорошо, когда сложнейшая тема по математике, например, дается детям в игровой форме. Но, с другой стороны, человек по природе своей ленив, систематические занятия быстро надоедают. Принуждать ребенка во Франции не принято, это считается насилием над личностью. А в музыке без каждодневных многочасовых занятий достигнуть вершин невозможно. Теперь я понимаю, почему советские музыканты так котируются на Западе». После такого разговора Таласбек и написал свою статью: «С одной стороны, никакого принуждения не было и быть не могло. С другой стороны, дед работал в колхозе и трудился по хозяйству, а я учился в обычной школе, тоже много работал: пас овец в очередь с соседями, ухаживал за скотом, носил воду из далекого колодца и т.д., к тому же не упускал случая поиграть с соседскими детьми, читал очень много художественной литературы, с десяти лет четыре месяца в году проводил на заработках на сенокосе, т.е. ни о каких ежедневных многочасовых занятиях речи не было. Тем не менее к семнадцати годам мой репертуар включал около ста кюев, тогда как общее требование к выпускнику консерватории (до того обучавшемуся в музыкальной школе и колледже) – репертуар в 20-30 кюев. О качественном различии пока умолчим. Я привожу эти факты не из желания похвастаться, у моего деда был и более талантливый ученик, к сожалению, рано погибший. Но потому, что эти факты позволяют задать вопросы: в чем суть традиционной музыкальной педагогики, можно ли использовать что-либо из ее опыта в современной системе образования? ...в казахской традиции не было вычлененной разветвленной системы музыкальной педагогики, как то имеет место в Европе. Обучение кюю, песне или жыру было элементом общей системы воспитания. Главное богатство – человек, главная цель – воспитание духовной личности. Понятно, что не было и специальных музыкальных школ. Школа – дом учителя, музыканта, а срок обучения зависит от взаимоотношений учителя и ученика... Дед забрал меня у родителей в двухдневном возрасте, чтобы передать свое искусство. Несмотря на преклонный возраст, он терпеливо ждал, пока я не созрею для серьезных занятий. Лишь когда мне исполнилось семь лет, и я стал во время детских игр напевать кюи, дед достал спрятанный им семь лет назад кусок дерева, сделал из него домбру по моей мерке и приступил к обучению. До этого мое музыкальное воспитание заключалось в том, что я жил рядом с учителем, имел возможность каждый день слушать его исполнение, его рассказы. Выступая на праздновании юбилея А.С. Пушкина, А. Блок сказал: «Нет специальных видов искусств» ... Речь идет о том, что искусства должны быть не самоцелью, а техникой развития духовного потенциала человека, который затем может изливаться в любой сфере, быть оформлен в любую форму. Поэтому по-настоящему талантливый человек талантлив во всем. М.Ю. Лермонтов, не сосредоточься он на литературе, мог бы достичь высшего уровня в рисовании. Многие великие физики ХХ века к своему музицированию относились не менее серьезно, чем к науке. В этом подлинный изначальный смысл дилетантизма, смысл казахских поговорок «Сегіз қырлы, бір сырлы» («Человек с восемью гранями-свойствами и одной сутью») и «Өнерді үйрен, үйрен да жирен» («Научись искусству, а затем отринь его», это должно пониматься не в буквальном смысле отказа от искусства, а как требование не превращать искусство в самоцель)... Просыпающаяся духовность ребенка принималась с уважением. От ученика не требовалось с первых дней доказывать свой талант публичным выступлением или сдачей экзамена. Детство – период пассивного восприятия, период, когда ребенок должен пить искусство, как пьют воду, насытиться им, а не период демонстрации достижений. Музыка пробуждает в душе человека некие слои эмоций. Поэтому она не должна превращаться в игрушку. Не следует раньше срока затрагивать эмоциональные пласты в душе ребенка, которые должны проснуться к жизни гораздо позже. Чувства созревают лишь тогда, когда они хранятся в глубоких слоях сознания, и лишь тогда они пробуждаются чистыми, способными к полноценному проявлению. Помню такой случай. Мне было лет десять, я учился в четвертом классе. Украдкой от учителя разучил кюй Таттимбета «Зар Косбасар» («Косбасар Плач» – один из сложнейших кюев в цикле о смерти и смысле жизни) и исполнил его перед сверстниками. Неожиданно вошедшая в дверь старушка (должно быть она услышала музыку еще за дверями) ударила меня палкой по плечу и отругала. Мы с мальчишками бросились наутек. Вечером я рассказал о происшествии учителю. Не задумываясь, он признал правоту старушки, потом замолчал на какое-то время и сказал: «Ну-ка, сыграй кюй». Я исполнил как мог, учитель рассмеялся и сказал, что мне еще рано исполнять это произведение. К исполнению этого кюя мы вернулись, когда мне было семнадцать. Но и сейчас я не могу утверждать, что до конца постиг его смысл...» Кстати, та соседка по имени Мугульсум позже, когда Таласбек уже был студентом и работал летом на стройке рядом с ее домом, поцеловала ему руку. У казахов видимо было принято целовать руку у младшего – ребенка, юноши. Многие старики целовали руку Таласу в детстве и юности из благодарности, что он продолжает творчество деда. В студенческие годы Таласбек иногда неделями с друзьями жил в доме у однокурсника, у которого была литературная семья, отец-критик и мама-поэтесса. Таласбек как-то наигрывал кюй Сугура Алиева (он не владел техникой этой школы, но любил кюи великого Сугура), из другой комнаты молча пришла бабушка однокурсника, поцеловала ему руку и ушла. Оказалось, что она младшая сестра Сугура, а отец однокурсника − Толеген Токбергенов прекрасно играл на домбре, Таласбек уговаривал его записать пластинку, но безуспешно. Возвращаясь к воспоминаниям Таласбека в статье «Будущее искусства кюя»: «В школе даже и не знали о том, что я домбрист. Время от времени я исполнял музыку у нас дома перед ближайшими друзьями деда – музыкантами, а первое публичное выступление состоялось лишь в десятом классе, когда из района вдруг спустили требование, чтобы в очередном смотре кто-то из школьников исполнил шертпе-кюй... Такова суть традиционного музыкального воспитания, акцент в котором делается на слушание, чувствование, безмолвное восприятие и рост, воспитание, цель которого – духовное развитие». Таким образом, важной частью воспитания в традиционной культуре было слушание историй. Детей, особенно тех, кого считали способными, не отделяли от взрослых, они с самого раннего детства слушали разговоры взрослых, постепенно углубляя свое понимание услышанного. О том, как это происходило, рассказывается в романе «Полдень». После издания романа была критика, мол, герои романа все время едят мясо, пьют чай и.… водку и разговаривают, рассказывают о старинных временах, вспоминают события своей жизни. С одной стороны, казахи действительно больше всего общались за дастарханом, домашние концерты для традиционных музыкантов в то время тоже были возможны только во время қонақ асы – угощения гостей. С другой стороны, Таласбек осознанно культивировал традиционную форму «рассказ в рассказе», одним из ярких примеров которой был сборник «Тысяча и одна ночь». Нағашы-ата Таласбека Асемкулова кюйши Жунусбай Стамбаев и его друзья, часть из которых стала прототипами персонажей романа «Талтүс» - «Полдень» получали мизерные пенсии. Например Жунусбай, 23 года работавший на лесоповале и в свинцовом руднике в лагере, затем более 20 лет в колхозе, получал в конце 1960-х 11 рублей в месяц. Время от времени старики вскладчину покупали книги, например, «Тысячу и одну ночь» в переводе с персидского на казахский Калмахана Абдыкадырова, «Путь Абая» М. Ауэзова. Они не знали кириллицу, поэтому, когда собирались вечерами, поручали читать вслух кому-то из внуков-школьников. Одним из таких чтецов был и Таласбек. «Тысячу и одну ночь» старики слушали с перерывами два-три года, сравнивали книжный вариант с тем, который знали изустно, обсуждали символизм. Статья Таласбека «Казахский эпос: человеческий дух в поисках изначально смысла» интерпретирует казахский эпос так, как это делали старики. С романом-эпопеей М. Ауэзова получилась такая история. Аул Таласбека Айгыз находится недалеко от абаевских мест, поэтому старики с детства слышали множество историй об этой семье, почитали Кунанбая как әулие (следует иметь в виду, что казахское «әулие» не тождественно христианскому понятию «святой»). Бытовало среди стариков мнение, что Абай своему отцу доставал лишь до колена. Чтение романа, в котором образ Кунанбая был сильно изменен писателем под давлением советской цензуры, вызвало удивлением, а затем негодование стариков: «Кунанбай, которого мы знаем, который сохранился в народной памяти, и Кунанбай в книге совсем непохожи». В конце концов старики пригласили на встречу школьного учителя литературы, начали задавать ему вопросы. Тот объяснил аксакалам, что Кунанбай в романе – символ косного феодального прошлого, что так было необходимо в рамках социалистического реализма. Жунусбай обматерил соцреализм и выгнал школьного учителя. Таково было знакомство Таласбека с методом литературы, который коренным образом отличался от традиций степной эпической традиции и устной историографии. Тюркская традиция требует говорить правду о герое. Эпос восходит к «мадақ жыры» − хвалебным песням, исполнявшимся на поминках батыра. Адресатом эпоса является аруах батыра, при этом считается, что аруах будет недоволен, накажет сказителя, если его будут возносить за несовершенные подвиги, если забудут о его ошибках и проступках, если не будет отражена правда о героизме врагов. *** Про языки. В ауле Айгыз в 1960-ые жил единственный русский – печник Иван, немцы и уйгуры в ауле прекрасно говорили по-казахски, но Жунусбай-ата отдал сына в русский класс. Не потому, что «орыс тілі дүниенің кілті», а потому что «язык врага надо знать». Так он и заявил. Учеников русского класса сверстники не любили, дразнили шоқынған – крещеный и били. В чисто казахском ауле он этот язык выучил через художественную литературу, в основном классическую. Его родная старшая сестра Зауреш, которая была продавщицей в ауле, по-русски говорила как русская дворянка, потому что для нее это был язык классической литературы, а не язык повседневного общения. В аульной школе девятого и десятого русских классов не было. Одна из старших сестер увезла Таласбека в Алматы, но он скучал по аулу, нарочно не учился, зимой она отправила его к другой замужней сестре на станцию Актогай. Таласбек и там не учился, его по итоговым оценкам даже оставили на второй год в девятом классе. После этого сестры, наконец, отпустили Таласбека в Айгыз, и он заканчивал школу на казахском языке. Во время учебы в КазПИ он получил разрешение посещать лекции преподавателей русского отделения, таких как Виктор Бадиков, общался со студентами обоих отделений. Таласбек был благодарен русскому языку за возможность читать художественную и научную литературу, но говорил: «Что бы я ни читал, всегда думаю о том, как прочитанное может быть полезно для казахов». Таласбек был одним из немногих писателей-настоящих билингвов, одним из лучших переводчиков в Казахстане, даже преподавал в начале 1990-х в альма-матер искусство перевода, переводил художественную литературу в обоих направлениях, а также с турецкого (в КазПИ хорошо преподавали сравнительную грамматику тюркских языков, Таласбек свободно общался на любом из них). Таласбек настолько чувствовал русский язык, что мог играть со стилями на нем. В киносценариях русский язык у Таласбека приподнятый, при этом очень живой, сочный, яркий, образный, он как бы отражает старинное казахское мировосприятие. В статьях и интервью русский язык вполне современный. В середине 90-х для международной газеты «Заман-Қазақстан» Таласбек переводил беллетризованное жизнеописание пророка Мухаммеда с турецкого языка на русский. Профессор Асия Мухамбетова удивилась: «Таласбек, это чуть ли не церковный славянский язык, сами русские сейчас не могут так естественно писать этим стилем, а ты как попович какой-нибудь». Таласбек в ответ рассказал, что в молодости очень хотел прочитать Библию, и его русский друг, сын Талгарского священника дождался, когда отец уедет в командировку, и привез Таласбеку Библию, которая была чуть ли не цепями прикреплена к амвону. С языками связана такая история: в начале 1980-х Таласбек пытался поступить в аспирантуру Института философии, нужно было сдавать экзамен по иностранному языку. Таласбек хотел сдать экзамен по турецкому. Но оказалось, нужен был европейский язык, Таласбек спросил: «А если в Лондоне англичанин хочет писать диссертацию по английскому фольклору, от него требуют экзамен по казахскому языку?» На этом его аспирантура закончилась. Смешная история, но очень характерная для Таласбека. Сейчас, когда казахскоязычные молодые ученые подают заявку на грант, тема чисто казахская, но документы они должны дополнительно оформить на русском и английском, вспоминаю тот случай. В тоже время всегда напоминаю этим ребятам, что Таласбек, которым они так восхищаются, очень много читал книг на одном из мировых языков, и им тоже необходимо осваивать один из таких языков. После распада СССР появилась возможность читать на английском не только газету английских коммунистов, чтобы сдать язык, и Таласбек очень сожалел, что не выучил его в молодости, и вынужден ждать, пока заинтересовавшую его книгу переведут на русский язык. При этом он говорил: «Русский язык слишком дорого достался казахам, и должен поработать на нас еще лет пятьдесят». Этот подход сильно отличается от мнения большинства казахских, казахскоязычных писателей. Сейчас иногда говорят, что язык метрополии принадлежит не только народу-колонизатору, но и колонизированным народам. Возможно, Таласбек думал так же. *** Но это было много позже. Семнадцатилетний Таласбек после смерти деда в 1973 году приехал в Алматы, записал сольный диск «Кюи Байжигита» на Алматинской студии звукозаписи Всесоюзной фирмы «Мелодия», а также несколько телепередач (это в те времена, когда в Казахстане вещали всего три телеканала: два московских и один алматинский, вещавший только по вечерам). Это стало возможным благодаря поддержке этномузыковеда Жаркына Шакарима и писателя Мухтара Магауина – сородича Байжигита. Но что делать дальше? Жунусбай-ата перед своей смертью запретил сыну учиться в консерватории. Таласбек, к 11-12 годам прочитавший все книги в школьной и аульной библиотеках, почему-то не думал о поприще литератора. Он поступил в медицинский институт, хотел найти лекарство от рака, ведь его старшие родственники, проживавшие поблизости от Семипалатинского полигона, один за другим умирали от рака. Но поступить на лечфак Таласбек не смог, два года проучился на стоматологии и бросил, поняв, что это не его, ушел в армию. Затем комсомольско-молодежная овцеводческая бригада, Таласбек был готов остаться в родном ауле навсегда. Но М. Магауин настоял на том, чтобы он поступил на казахскую филологию в КазПИ имени Абая. Получается, Таласбек не стремился стать писателем, он и сам об этом сказал в одном интервью, а большинство парней, учившихся на казахской филологии, шли туда, чтобы стать литераторами – престижная и доходная профессия в советское время. *** Жунусбай-ата отдал Таласбека в русский класс со словами «язык врага надо знать». Когда Таласбек влюбился в русскую девушку, его мама сказала ему: «Если вы (она была с усыновленным ее отцом сыном на вы) женитесь на дочери наших врагов (ата жау), то я прокляну вас». Сейчас кажется, что казахи в поздний советский период полностью советизировались, не мыслили себя вне СССР, но с точки зрения Таласбека это было не так. В 1979 году, когда СССР вошел в Афганистан, писатель Аскар Сулейменов сказал в кругу писателей: «Никто не побеждал афганцев. Через 10 лет, потеряв тысячи солдат и миллионы денег, Советский Союз с позором выйдет из Афганистана и после этого распадется». Об этом говорил и М. Магауин. Один из преподавателей на занятиях вне программы читал Магжана Жумабаева и других репрессированных алаш-ординцев, каждый раз завершая чтение осуждением и «критикой» буржуазного национализма. Преподаватель сравнительной грамматики тюркских языков, как и некоторые другие, исповедовал пантюркизм. Один из преподавателей, по словам Таласбека, говорил студентам: «Вы – будущее независимого Казахстана, должны упорно учиться, чтобы возглавить страну». Это предсказание он вспоминал с горечью: «Пока мы сидели в библиотеках, другие строили карьеру, выслуживаясь перед коммунистами, и они руководят страной». Всех этих преподавателей Таласбек называл по именам, я, к сожалению, не запомнила. Конечно, были и невежественные преподаватели. Но в целом из рассказов Таласбека КазПИ второй половины 1970-х выглядел оплотом независимой казахской мысли. Возможно, так ситуацию воспринимал именно Таласбек, он находил интеллектуалов, близких ему по духу. Один из однокурсников Таласбека, доктор филологических наук Кенжехан Матжан как-то сказал мне: «Мы тогда были комсомольцами, коммунистами, а Таласбек говорил об аруахах, постоянно пересказывал истории аульных стариков, ссылаясь на них, опровергал то, как события например гражданской войны подавались в книгах и фильмах. Многие считали его «отсталым», застрявшим на уровне аульных баек, а еще его считали «қияли» − «человеком, погруженным в свои фантазии». По-русски «фантазер» звучит безобидно, казахское «қияли» имеет сильный негативный окрас. К тому же Таласбека во время службы в армии в Мурманске как-то повезли в госпиталь, как выяснилось, на обследование к психиатру. Оказалось, соседи по казарме пожаловались, что он во сне делает непонятные движения руками. Таласбек объяснил врачу, что он музыкант, скучает по инструменту, в одной из военных частей нашли домбру, и Таласбек смог доказать психиатру свои слова. Этномузыковед Жаркын Шакарим опубликовал в своем блоге письмо молодого Таласбека к нему из армии, где он рассказывает о северном сиянии и т.д., а на вопрос «прислать ему домбру в армию» отвечает отрицательно. Таласбек ненавидел советскую армию, как-то сказал: «Мурманскта арқамның жартысын жоғалттым» (потерял половину своего духа, таланта). Выдающийся певец Кайрат Байбосынов, также служивший в Муранске, говорил Таласбеку, что потерял там половину голоса. Конечно, это в первую очередь вопрос к руководителям культуры Казахстана, почему талантливым музыкантам не делали бронь от службы в армии. Таласбек с болью говорил о том, что во Второй мировой войне погиб Охап Кабигожин – молодой домбрист, талантом которого восхищалась великая Дина, другие уникальные музыканты. Это проявление безразличия власти к талантам, к будущему своего народа. И проявление низкого статуса казахской традиционной музыки в КазССР. *** Во время учебы в институте Таласбек выбрал свое направление – фольклористика. Большинство выдающихся образованных казахов 19-первой половины 20 века занимались в той или иной степени фольклористикой. Вне зависимости от профессии. На самом деле, это было стремление сохранить казахское традиционное знание, которое в табели о рангах колониальной науки было заверстано в фольклористику. Таласбек как-то говорил, что в студенческие годы только рукописей с легендами о кораническом персонаже Искандере Зулькарнайне у него было два чемодана. Самые ранние, написанные в конце 1970-х статьи Таласбека, те, что сохранились, не были опубликованы вовремя. Большая часть из них утрачена: редакции газет и журналов не возвращали напечатанные на машинке рукописи. Часть потерял сам Таласбек во время 30-летних бездомных скитаний по Алматы. Те ранние рукописи, что сохранились, − «Единая тюркская мифологическая система», «Көне қазақ романдарыныі эстетикасы» − «Эстетика древних казахских романов» и «Псевдо-Таттимбет и настоящий Таттимбет» − удивляют. Но о них подробнее в следующей лекции.
«Таласбек зря тратил время на музыку, он должен был посвятить себя прозе» − говорят иногда литераторы. «Таласбек зря тратил время на литературу, он должен был сосредоточиться на кюе», − считают домбристы. Писатель и историк, доктор филологических наук Турсын Журтбай, выступая на презентации 5-томника Таласбека Асемкулова в НАБ РК в 2016 году, сказал: «В Таласбеке талантов было достаточно, чтобы пятерым называться великими. Если разделить качества (қасиет) Таласбека между пятью людьми, каждый из них был бы признан великим. Эти таланты: домбырашылық − исполнительское искусство домбриста, күйшілік – талант композитора, талант музыкального мастера – создателя домбр, талант переводчика и писательский талант». Объясняя свою мысль, Т. Журтбай ссылается в основном на произведения Таласбека, созданные тем в молодости. Вероятно, он не очень следил за творчеством Таласбека после 1990-х по причине своей занятости. И он не упомянул одну из граней творчества Таласбека – исследования, потому что не знал их, потому что ранние статьи Таласбека не публиковались, большая часть утрачена. Если старинные кюи, исполнявшися Таласбеком, были оценены как подлинные, то его сведения об этнографии, фольклоре и устной литературе не принимались, часто ему прямо говорили, что эта его выдумка. Таласбек пожимал плечами: «Что же мне делать? Я не виноват, что казахи все забыли». Некоторые его тексты получили подтверждение через долгое время, например статья о стратегической игре «Тәртікем». Оказывается, в СУАР в свое время была публикация этнографа об этой игре. Некоторые сведения Таласбека, которые он даже не стал записывать, считая, что их посчитают его фантазией, сейчас подтверждает профессор математики Джезказганского университета, автор книг о нумерологии в исламе Гузыхан Акпанбек. На самом деле проблема неприятия знаний Таласбека кроется глубже: кто говорит, кто имеет право говорить и самое главное оформлять в тексте знания о культуре колонизированного народа с устной традицией. Таласбек прекрасно понимал эту ситуацию: «Мы, домбристы, – рыбы, они, этномузыковеды, − ихтиологи. Мы им нужны только как информаторы. То, что я говорю, считается подлинным, если это запишет этномузыковед, и в своей статье процитирует меня, указав в сносках год и место моего рождения. А когда я теоретизирую − на меня смотрят с усмешкой: рыба заговорила. И никто в голову не берет, что так называемый «информатор», «человек из народа» может просто не знать того, о чем его спрашивают, может добросовестно ошибаться, может утверждать что-то под давлением ученого, может фантазировать или даже подшучивать над фольклористом. Рыбы так не могут, они всегда тождественны себе. Я мог бы придумывать информаторов, но я не хочу. Мои учителя уже умерли, почему я не имею права просто рассказывать то, чему в детстве научился от них?» А учили его не только музыке, анализу литературных текстов, основам ремесел и воинского искусства, традиционного летоисчисления, но и например тому, что в христианстве называется наукой различения духов. Если во сне приснился умерший человек, то это может быть просто плод твоей памяти, твоего сознания, может быть джиин-пери, принявший облик аруаха, и тогда от него во сне исходит неприятное красное горячее свечение. Если же во сне приснился действительно аруах, то свет от него прохладный, голубоватый, успокаивающий. Таласбек в конце 1970-х − начале 80-х, т.е. в возрасте 23-28 лет писал много статей. Ни одна не была опубликована тогда, большинство утеряны, пропали в редакциях газет и журналов, некоторые в переделанном, искаженном виде были опубликованы редакторами изданий от своего имени, иначе говоря, украдены. Сохранились три статьи − невероятного уровня, прорывные. В них мысли, уровень зрелого Таласбека. Эти машинописные тексты выглядят похоже – на пожелтевшей плотной бумаге, с ржавым следом от скрепки: «Көне қазақ романдарының эстетикасы», «Настоящий Таттимбет и псевдоТатимбет», «Единая тюркская мифологическая система». Одна из этих статей – «Единая тюркская мифологическая система», написанная в 1979 году, в последний год учебы в КазПИ им. Абая, − в 1980-ые ходила в перепечатках среди алматинских этномузыковедов и фольклористов. Статью даже отправили в один из московских научных журналов, но ответ был таков: автор безусловно талантливый, но его методология непонятна, не соответствует историческому материализму и т.д. В Алматы статья тоже вызвала неоднозначную реакцию. Я опубликовала это исследование 1979 года в 1995 году в газете «Горизонт» под названием «Казахский эпос: человеческий дух в поисках изначального смысла». И в этот раз реакция была совершенно другой. Казалось, аудитория только теперь созрела для этого текста. Это исследование раскрывает традиционный для казахов способ интерпретации эпических и сказочных текстов. Когда во время перестройки на русском языке стала издаваться ранее недоступная в СССР научная литература, оказалось, что реконструированный Т. Асемкуловым древний казахский способ интерпретации сюжетов отчасти напоминает методологию Карла Густава Юнга, с ее архетипами коллективного бессознательного. Персонажи сказаний «Козы Корпеш – Баян сулу», «Алпамыс», «Кобланды» рассматриваются как олицетворения тех или иных структур сознания, психических комплексов, сил души. События эпоса как бы разворачиваются внутри одного сознания. Сознания шамана? Или некоего высшего существа, которое затем стало нашим миром? Интерпретация не просто связывает макрокосм и микрокосм: произошедшее в сознании на уровне идей и чувств определяет космогонию, устройство мира. Т. Асемкулов написал в послесловии к запоздалой публикации: «В этом исследовании мне удалось передать лишь малую часть той информации о казахском эпосе, которую я слышал в детстве, около 5 процентов... Особенность нашего эпоса, традиционной его интерпретации стала очевидной для меня с годами: нравственность, честь, совесть, сострадание в кочевой традиции признаются выше всего. Они изначальнее бытия. «Чужая слабость, чужая беззащитность становятся твоей совестью». Если бы этим императивом руководствовалось человечество в своем развитии… К сожалению, в мировой истории победили безжалостные народы-хищники, у которых чужая слабость вызывает желание добить, растоптать». Две другие сохранившиеся чудом статьи (их обнаружил в фольклорном кабинете Алматинской консерватории, где Таласбек временами жил, домбрист Базаралы Муптекеев и принес к нам домой): «Көне қазақ романдарының эстетикасы» − «Эстетика древних казахских романов», «Настоящий Таттимбет и псевдоТатимбет». «Эстетика» − это, по существу, посвященный эпосу «Козы-Корпеш – Баян-сулу» фрагмент на казахском исследования «Единая тюркская мифологическая система». Само название статьи выражало идею автора и было вызовом. Во-первых, в советское время негласно запрещалось использовать понятие «эстетика» по отношению к казахской дореволюционной культуре. В 1975 году была издана и затем изъята из магазинов коллективная монография Мурата Ауэзова и его друзей-шестидесятников «Эстетика кочевья». Главная причина, по словам Мурата Мухтаровича, — это название. Во-вторых, Таласбек в названии своей студенческой статьи определял казахские эпосы как древние романы. Это было его глубоким убеждением: он с увлечением анализировал сюжетные повороты классических эпосов, персонажи, их мотивировки, детали, художественные средства, восхищался мастерством авторов. Кстати, Г. Потанин в опубликованной в 1899 году книге «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе» доказывал происхождение рыцарского эпоса и романов средневековой Европы из тюрко-монгольского эпоса. Таласбек ознакомился с этой работой во второй половине 1990-х, но и до того он находил, например, отголоски тюркского эпоса даже в романах Вальтера Скотта − писателя, который «изобрел нацию». Здесь нельзя не вспомнить о роли, которую играли романы в формировании наций согласно теории Бенедикта Андерсона о воображаемых сообществах. Хотя Таласбек, как и другие казахские литераторы, с этой концепцией не был знаком, казахские гуманитарии не раз писали о том, что эпосы, даже если главный герой имел вполне определенное родовое происхождение, были известны, исполнялись по всей степи, и казахский язык с небольшими различиями был единым уже в средневековье. Если считать казахские эпосы романами, как делал это Таласбек в 1979 году, получается, что и казахи как воображаемое сообщество сформировались уже в средневековье. С. Кондыбай пошел еще дальше, он считал и частично обосновал в книге «Есен қазақ» (2002), что тюркский фольклор был переформатирован в исламском духе в 14 веке и таким образом была создана идеологическая база для будущего Казахского ханства. Он планировал этой теме посвятить отдельную книгу, но не успел. «Настоящий Таттимбет и псевдоТатимбет» − статья объемом 1 страница, написанная на казахском языке, но с заголовком на русском. Она посвящена интересному явлению в казахской традиционной культуре: молодой художник, стесняясь обнародовать свое творчество, приписывал свои произведения какому-нибудь прославленному творцу. Например, аркинские домбристы второй половины 19-начала 20 века поклонялись кюйши Таттимбету Казангапулы. «У него было много эпигонов. Так появились поддельные, псевдотаттимбетовские кюи. Как можно различить настоящие кюи Таттимбета от псевдо-Таттимбета?... В псевдотаттимбетовских кюях отдельные удачные узоры не связаны между собой. Много надуманных пауз, люфт-пауз. Настоящий Таттимбет формулирует коротко, очень темпераментно, одним выразительным мотивом передает красоту чувств, горе и страдание. Псевдо-Таттимбет дотошен, подробен... У истинного Таттимбета, если опустить один звук, мелодия может уйти в другую сторону. А у псевдо-Таттимбета как ни поворачивай мелодию, характер кюя не изменится. В настоящих кюях Таттимбета мажорная, на первый взгляд сладкая мелодия, но в действительности она передает двойственное, противоречивое настроение, в котором смешаны радость и страдание. У псевдо-Таттимбета кюй медоточив, сладок до пресыщения...» пишет Таласбек и делает вывод: «Исполнявшиеся от имени Таттимбета эпигонские кюи – это не просто бессмысленное подражание... Это первые пробы сил кюйши, со временем ставших звездами первой величины... Это юношеские произведения пылкого поколения, болевшего Таттимбетом». Все эти три юношеских текста Таласбека не были опубликованы вовремя. Позже он, видимо в стремлении издаваться, быть понятым казахской аудиторией, пытался приспособиться к общему среднему уровню, писал про того же Таттимбета, например, описательные статьи. Таласбек любил повторять мысль о том, что творческий человек в своем развитии проходит через четыре ступени: 1) когда он пишет плохо и просто, 2) плохо и сложно, 3) сложно и хорошо, 4) хорошо и просто. О четвертой ступени он говорил «простота невероятной сложности». Он иногда радовался за своих друзей-писателей: такой-то перешел на третий уровень, будем надеяться, что поднимется на четвертый. Сам Таласбек любил упаковывать глубокие мысли в простые по видимости тексты, которые читатели могут понимать по-разному в зависимости от уровня своей подготовки. А размышлял он о вещах, о которых, наверное, у нас мало кто думает. Например, о метафизике. Об исламе, точнее, о справедливости Аллаха в контексте голодомора, в романе «Талтүс» - «Полдень» есть небольшая дискуссия главного героя с муллой. Мулла говорит: «Ислам – религия, заворожившая наших предков своей напевностью». У самого Таласбека было сложное отношение к религии: с одной стороны, его дед и другие учителя читали намаз, Таласбек верил в боговдохновленность сур Корана, верил, что звучание священных аятов может исцелить человека, защитить от воздействия негативных психических сущностей. Вспоминается, как Лев Гумилев сравнивал отношение к огню у зороастрийцев и тюрков: зороастрийцы боятся осквернить священный огонь даже своим дыханием, а тюрки относятся к нему инструментально, очищают огнем и себя, и скот, и имущество. В отношении Таласбека к исламу было что-то похожее. Он знал, что численность и государственность сохранили лишь те тюркские этносы, которые стали мусульманами. С другой стороны, Таласбек высказывал мысль, что, приняв ислам, тюрки попали в чужой временной континуум, что эсхатологичность ислама провоцирует упаднические настроения, снижает способность бороться, и ислам привел к снижению статуса женщины у тюрков. Многие борющиеся за влияние в стране течения ислама пытались вовлечь Таласбека в свои ряды, обещая ему разные блага в зависимости от своих возможностей. Он колебался, изучал их, несколько раз думал начать читать намаз, но потом решил: «Лучше я останусь со своими анекдотами. Молитва человека не может быть выше его самого. Намаз многих наших деятелей культуры и политиков слишком похож на торговлю с Творцом: я читаю молитву Тебе, а Ты мне за это дай то, это и вот это... А я рассказываю анекдоты, чтобы улыбнулись те, у кого жизнь слишком трудная». Еще Таласбек любил мысль, принадлежащую, кажется, Ошо: богоборец ближе к Богу, чем святой, потому что постоянно думает о Боге, относится к Нему как к живому. Таласбек с юмором относился и к тем, кто называл себя тенгрианцем. Про одного приятеля, которого когда-то сам научил азам казахской духовной традиции, Таласбек говорил: «Его тенгрианство означает лишь одно: пил, пью и буду пить». Таласбек был жизнерадостным, веселым и одновременно имел глубоко трагичное мировоззрение. Мы обсуждали эту трагичность на материалах романа «Талтүс» в 2004 году в беседе «Тема горя, страдания и печали в казахской традиционной культуре». В беседе он говорил о двух типах страдания – историческом и метафизическом, возникающем вследствие осознания отделенности человека от высшего источника. Но глубже всего эту тему раскрыла Асия Багдаулеткызы в эссе «Тереңдік. Тәмсіл. Таласбек», написанном уже после смерти Таласа. Некоторые знавшие Таласбека считают, что он должен был стать духовным учителем. В одном из своих последних исследований «Легенда о легенде, или несколько мыслей о происхождении устной культуры» Таласбек, опираясь на теорию катастрофизма, вводит понятие «эвакуация традиции». Он выдвигает предположение, что в глубокой древности, много тысячелетий назад наша культура была письменной. Но когда ей грозила смерть вследствие прогнозируемых природных катастроф, была разработана особая мнемотехника, и подготовленные люди выучивали наизусть огромные тексты, в которых в символической форме передавались древние знания о человеке, обществе, мире. Так появились Люди-Книги и устная культура. Концепция эта напоминает роман Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и кажется фантастической. Но автор находит в природе устной культуры, в фольклорных текстах убедительные доводы в ее пользу. Сам Таласбек был таким Человеком-Книгой, Человеком-Кюем, на которого то ли Судьба, то ли Учителя возложили особую миссию. Но эта роль часто тяготила его. Он не хотел быть музейным экспонатом, случайно выжившим динозавром. «Почему-то считается, что казахский фольклор ограничивается тем, что записали Абубакир Диваев и Машхур-Жусуп Копеев, я же не виноват, что с детства от стариков узнал такое, о чем другие и не слышали, что казахи забыли собственные знания», − с горечью говорил Таласбек. Видимо, неприятие, недоверие заставили Таласбека отказаться от фольклористики. Он говорил, что в лоне казахской литературы развивался психологический детектив. Помните, сказку о трех братьях, которые вместе закопали полученное от отца наследство, а потом обнаружили, что оно пропало. Было ясно, что клад забрал один из них. Братья вместе отправились к судье. По дороге они встретили караванщика, потерявшего верблюда. «Верблюд проделал долгий путь? Он слеп на левый глаз? На него была навьючена бадья меда? Нет, мы такого не видели». Караванщик разъярился: «Вы в точности описали моего верблюда и говорите, что не видели его? Вы его и украли. Пойдемте к судье». У судьи братья рассказали о том, как они по следам восстановили приметы верблюда. Потом судья попросил братьев разгадать еще несколько загадок, а затем предложил их вниманию историю о невесте, которую ее жених после свадьбы отпустил попрощаться с возлюбленным, и которая на обратном пути встретила разбойника. Судья задал братьям вопрос: кто из трех мужчин поступил благороднее? Каждый дал свой ответ и обосновал его. Судья обратился к младшему брату: тебе разбойник представляется самым благородным, ты сочувствуешь ему, потому что и сам совершил преступление, верни сокровища братьям. Эта сказка известна всем нам с детства, но Таласбек акцентировал внимание на том, что, во-первых, в ней речь идет о дедукции, во-вторых, судья понял, что братья слишком умны, никаких улик в деле нет, и устроил им психологическое тестирование. Младший из братьев отождествил себя с разбойником, это и выдало его. В интерпретации Таласбека казахская традиционная литература была живым, развивающимся явлением. Например, он говорил, что у Абая было еще как минимум два современника такого же масштаба и глубины – это Майлыкожа в южном Казахстане и Абубакир Кердери в западном. В тоже время у Таласбека был сильно развитый критический взгляд, он сравнивал казахскую литературу с мировой без форы, мог перечислять, какие произведения классиков советской казахской литературы заимствовали сюжет из западной литературы. Как-то раз с горечью сказал: произведения реабилитированных алаш-ординцев мы должны были читать в детстве, полюбить их, как любят родных. Большинство из них трудно принять всерьез взрослому, когда уже знаешь мировые шедевры. И про советскую и постсоветскую казахскую поэзию он в целом был не очень высокого мнения, считал, что молодым поэтам стоит вернуться к нашей классике – эпической поэзии. Режиссер-документалист Асия Байгожина так написала о Таласбеке в статье «Хранитель Традиции»: «Он говорил о героях и событиях минувших веков словно их современник – как будто получал информацию из первых рук. Казахская история для него была абсолютно живой и непрерывной. Он ощущал ее токи, чувствовал тектонические сдвиги и разломы, понимал суть перемен. Он был человеком Традиции. А значит, жил под знаком вечности. В лице Таласбека Асемкулова мы потеряли живое подлинное знание Степи... Он артикулировал вещи, о которых мы лишь смутно догадываемся и не берем в расчет, но без них жизнь теряет смысл...». В тоже время Таласбек очень интересовался космологией, футурологией, восхищался свободой, которую дарит творцу интернет. Молодая критик Асия Багдаулет написала так: «Иногда Таласбек-аға казался человеком будущего. А иногда, наоборот, человеком девятнадцатого века, заблудившимся в нашем времени. Он должен был жить в другой, более благородной, более чистой формации. И он хотел сформировать такую формацию». Он хотел помочь молодым, открывая для них новые темы и горизонты, новые пласты знаний и новые подходы. И всегда защищал молодых писателей, их право на эксперимент. Он защитил от буллинга литературной тусовки постмодерниста Дидара Амантая, отстаивал и других молодых писателей, которых критиковали за плохой стиль, нелитературный язык и т.д. Таласбек делал это не только из гуманности, но и потому, что считал, что казахский литературный язык требуют обновления. Сам он мог писать по-разному. Писатель Турысбек Саукетай в личной беседе как-то сказал, что в статьях Таласбека язык какой-то странный, не совсем казахский. При этом про киносценарии Таласбека на исторически темы критики писали, что «на экраны вернулся язык Ауэзова и Мусрепова». В чем-то это была суть Таласбека, выросшего среди традиционных мастеров, но проштудировавшего мировую литературу (в переводах на русский), в чем-то − стилизация. *** Таласбек считается традиционным художником, поэтому его ровесников очень удивляло его стремление общаться именно с молодежью. Недавно об этом в передаче «Таласбектің Талтүсі» цикла «Үркер» на Абай-тв вспоминал писатель Жусупбек Коргасбек. При этом в частных разговорах знакомые домбристы и писатели иногда говорили Таласбеку: «Вроде эта твоя вещь казахская, но что-то в ней есть... такое... что-то не то». Например, так домбрист Ж. Жузбаев как-то сказал за чаем о кюе Таласбека «Кеменгер». Таласбек рассмеялся, оказывается, на этот кюй оказало влияние творчество малоизвестного лотарингского гитариста, запись которого Таласбек услышал в гостях во Франции. Но это это не значит, что Таласбек аранжировал гитарную композицию. Таласбек очень любил строки Анны Ахматовой «Ах если б знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Он был очень доволен, когда сумел из выражения в тексте попсовой песни сделать литературную метафору, которой потом восхищались критики. И он хотел как-то на спор сделать кюи-шедевры из звонков на трехколесном велосипеде дочки, из звуковых сигналов стиральной машинки. Руки до этих кюев не дошли, но мелодией «Танец со шляпой» на мобильном моего брата он очень заинтересовался, записал на диктофон, а потом сделал из нее кюй. Так он сам сказал. Правда, мы с братом в этом кюе знакомой мелодии не услышали. Оказалось, Таласбек использовал ритмический рисунок «Танца» в секундном фрагменте кюя, переходе от одной его части к другой. Таласбек ценил такую игру, хулиганство в творчестве мастеров прошлого и у современников, мог хохотать от удовольствия от удачных розыгрышей, наблюдений, сопоставлений, экспериментов. В начале 2000-х в беседе «Біз постмодернистік бостандыққа дайын емес болып шықтық» («Мы оказались не готовы к постмодернистской свободе») Таласбек цитирует выпад против молодых одного из старших писателей: «Литературный эксперимент в большинстве случаев не выходит за рамки пустого подражательства. Разумеется, великая классическая литература не примет это всерьез». Таласбек отвечает: «Великая классическая литература – это тоже эксперимент. Удачный эксперимент. Вообще, все, что происходит в этом мире – эксперимент. На одном из католических соборов в Ватикане религиозные деятели, чтобы осмыслить последние достижения науки, ввели принцип «продолжающегося творения». Наш мир – это всего лишь продолжающийся эксперимент. Соответственно, искусство, изображающее это непрерывное, еще не устоявшееся, вечно продолжающееся творение – это тоже эксперимент». При этом Таласбек любил мысль одного из китайских мастеров живописи о том, что право на новаторство, эксперимент имеет тот, кто полностью овладел традиционным ремеслом.
К прозе Таласбек, вероятно, обратился в начале 1980х. Первый опубликованный его аллегорический рассказ «Атайы» предваряется эпиграфом «Где и когда ты встречал без подножья вершину...» из модного в те времена поэта Роберта Рождественского Царь зверей лев обращается к человеку: «Ты командуешь миром... Ты - хозяин. Мы спорить с тобой не хотим и не можем... Мы уходим в историю этой печальной земли». В рассказе Таласбека действие происходит в царстве зверей. Состарившийся лев передает власть вожаку волков Атайы и уходит умирать на гору, где умирают цари. В лесу появляются люди, начинается завоевание, Атайы возглавляет сопротивление, а потом со своей волчицей бежит из разгромленного леса. В финале он оказывается в зоопарке, где видит за решеткой реанимированного льва. На первый взгляд, пафос повести – экологический, но зная автора, нетрудно догадаться, что это иносказание о судьбе колониального народа, о судьбе его ценностей. Рассказ, вероятно, был написан во время работы в Музее музыкальных инструментов. Таласбек не раз с горечью говорил, что традиционные музыканты – это динозавры и мамонты, экспонаты музея. Параллель между судьбой животного и судьбой человека, народа он проводит и в цикле рассказов о собаках и о лошадях. Таласбек планировал написать хамса – это восточная форма, пять произведений на одну тему – о собаке и хамса о лошади. Но не реализовал этот замысел, сохранились рукописи рассказов «Старая лошадь», «Трехногая собака», «Арылу» (избавление, очищение, возрождение), и во всех этих рассказах проводится эта параллель. Рассказ «Старая лошадь», например, рассказывает о неукротимом тулпаре, которого мноие годы держал в путах голодным и избивал, заставляя покориться, колхозный начальник. Состарившийся конь отпущен на свободу, но по привычке он продолжает прыгать так, будто находится в путах. Первоначально «Старый конь» имел продолжение, рассказ «Заседание» о молодом ученом, исследователе казахской устной литературы, диссертацию которого проваливают пожилые казахские филологи. Прототипом главного героя был писатель и исследователь Мухтар Магауин, которого Таласбек считал своим старшим братом и учителем. Рассказ в 80-ые в журнале «Жалын» был опубликован без продолжения, не знаю, кто его удалил. Сам Таласбек позже не хотел публиковать «Заседание», считая слабым в художественном плане. А может быть сказалось его разочарование в старшем писателе. Интересно, что этот ранний рассказ как бы предваряет поздний автобиографический роман М.Магауина «Мен» − «Я». Столкнувшись с идеологическими ограничениями и трудностями при публикации, Таласбек около 20 лет не писал художественных текстов. Единственное исключение − киноповесть об Аблай-хане «Смерть Кокбалака» 1997 года, которую заказала моя подруга, эмигрировавшая во Францию и общавшаяся там с кинематографистами. Проект не был осуществлен. В прозе Таласбека особое место занимает автобиографический роман «Талтүс» − «Полдень» о взрослении мальчика, которого воспитывает старик-кюйши. Роман имеет традиционную форму, была даже критика: мол, герои все время проводят за столом, едят мясо, пьют чай и кое-что покрепче. С одной стороны, у казахов музыка действительно исполнялась за дастарханом, с другой стороны, эти застолья – рамка для многочисленных рассказов в рассказе и вставных новелл. «Полдень» — это роман о воспитании, о взрослении, и вместе с тем роман о казахской традиционной музыке, об истории казахов в 20 веке. Он насыщен внутренним знанием музыкальной традиции, так что с момента издания используется как учебное пособие для классов шертпе-кюя. До Таласбека, конечно, были писатели, которые создавали художественные произведения об искусстве кюя и о кюйши: Абиш Кекильбаев, Такен Алимкулов, Мухтар Магауин. Кстати, написанный в середине 1970-ых роман Магауина «Кокбалак» посвящен Сугуру Алиеву и Жунусбаю Стамбаеву, т.е. деду Таласбека. Дед Таласбека является прототипом главного героя романа Магауина, кюйши Токсаба (конечно, в романе есть большая доля художественного вымысла), Таласбек консультировал писателя по музыке во время написания романа. На моем ютюб-канале есть лекция «искусство кюя в письменной литературе» (https://www.youtube.com/watch?v=FGOGNcO8Kw8). Знатоки отмечают, что описание музыки в романе «Полдень» выделяется, и объясняют это тем, что автор сам был кюйши. Конечно, это так. Но следует иметь в виду, что Таласбек всю жизнь, готовясь к роману о кюйши 19 века Таттимбете, очень много читал музыкальную литературу – русскую и переведенную на русский язык, особенно по исполнительству: учебники, теоретические исследования, дневники и мемуары выдающихся исполнителей – пианистов, скрипачей, гитаристов и т.д., педагогов, художественные произведения о музыкантах. Вполне вероятно, что просмотрел по этой теме все, что есть в казахстанских библиотеках. В его рабочих тетрадях можно найти записи: каталожный ящик такой-то систематического каталога, заказать все книги. Такое тщательное изучение литературы было связано не просто с любовью Таласбека к музыке, в т.ч. и европейской. Как объяснял сам Таласбек, он целенаправленно искал, как можно описывать музыку, исполнительство. Знание тонкостей домбрового исполнительства, традиционной домбровой терминологии, которую восстановил Таласбек, было недостаточно для его замысла, необходимо было расширять диапазон, инструментарий, по сути создавать новый казахский язык описания музыки. Как-то, во время работы над незаконченным романом «Тәттімбет сері» Таласбек посетовал: «Все труднее рассказывать о кюях по-новому, не повторяясь, ведь я уже столько кюев описал в «Талтүс», «Кәрі күйші», теперь «Тәттімбет». А мне еще столько кюев предстоит описать в этом романе, список составил, но очень трудно находить новые слова, образы...» Сейчас молодые домбристы, исполняющие шертпе-кюй, описывают музыку фразами из романов Таласбека. Кажется, они думают, что это вполне традиционный язык, но во-многом это плод интеллектуального поиска Таласбека. В романе он пишет: «Если ты все сделал, как надо, слушателям кажется, что твой кюй сразу появился на свет таким цельным и стройным, что по-другому и быть не могло. Но за этим всегда скрывается пытка и пролитый тобой пот». То же самое можно сказать и о языке описания музыки, о литературном и сценарном творчестве Таласбека вообще. Роман «Талтүс»-«Полдень» был написан в 2002 году по настоянию литературного критика, покойного Зейнолла Сериккали, который возглавлял казахскую часть конкурса Фонда Сорос-Казахстан «Современный казахстанский роман». Таласбек настолько отошел от прозы, что понадобилось давление с двух сторон − со стороны Зейнолла-аға, которого Таласбек глубоко почитал как самого порядочного человека в казахской литературной среде, и с моей стороны. По условиям конкурса, на написание романа давался год, но весь год Таласбек не писал, ссылаясь на болезни и занятость, а потом «бросил текст на бумагу» за месяц. Мне кажется, кроме проблем, связанных с содержанием и формой романа, кроме обычных страхов писателя после долгого перерыва, Таласбеку пришлось преодолевать трудности другого порядка. Слишком много травм было у него в детстве. Он изобразил в романе лишь небольшую их часть, и то англоязычная аудитория была шокирована количеством бытового, семейного насилия в романе. Эти картины насилия, которыми особенно насыщена первая глава, были нужны: во-первых, чтобы оттенить образ мальчика-музыканта и самой казахской музыки, во-вторых, в следующих главах романа раскрываются исторические причины аутоагрессии казахов второй половины 20 века. Эта проблема очень волновала Таласбека сама по себе, он даже написал статью «Голод и война», планировал развернутое исследование. Написание романа имело для Таласбека психотерапевтический эффект. Финальная сцена – прощание-примирение с приемной матерью – полностью вымышлена. В жизни было по-другому. Но к концу процесса Таласбек сказал: «Пока я писал, я ее простил, поэтому поменял финал». К сожалению, чтобы совсем уж не перегружать роман жестокими сценами, он не стал писать о других травмах детства, и они остались неизжитыми. Глядя на реакцию многих читателей, в т.ч. психологов, прихожу к выводу, что роман оказывает психотерапевтическое влияние и на многих читателей. И вполне может быть, что это задумывалось Таласбеком. Он как-то сказал: «Я тоже экспериментирую, только делаю это незаметно, и никто не видит». В качестве примера он приводил первые строки романа: «Он так и не узнал, что такое счастливое детство. Да и было ли детство – теперь не вспомнить… Лишь один день он был счастлив по-настоящему. Весь мир, казалось, был упоен беззаботной летней песней жизни. Они держались за руки и шли к далекому горизонту... Он не знает, кем был человек, надежно державший его за руку и ведший за собой... Кто-то хороший, добрый. И сколько дней они шли, тоже не заметил. Будто один долгий день... Однажды тот человек исчез. И он не знает, куда тот он ушел, да и была ли их встреча в реальности, или то был сон?» Эти строки Таласбека отсылают к мифологическому времени сновидений, а еще к Станиславу Грофу, который считал, что перинатальные воспоминания лежат в основе архетипа райского состояния, золотого века. Этот мотив возникает еще раз ближе к концу романа, в переживаниях об утраченной первой любви. Как-то молодая журналистка Дина Елгезек написала в facebook: "Таласбек ағам тірі болғанда, бізді жылататын талай сапалы дүние өмірге келуші еді, әттең!" – «Если бы наш Таласбек-ага был жив, он бы написал еще немало качественных вещей, которые бы заставили нас плакать». Речь идет не о мелодраматичности. Таласбек сознательно избегал ее. Описывая реальное событие, он мог даже опустить какие-то детали, чтобы эпизод не стал сентиментальным. Речь идет о другом явлении. Когда Таласбек готовился писать о выдающемся деятеле прошлого, он собирал материал, обдумывал его. Но не начинал писать до тех пор, пока при мысли об этой личности у него не появлялось особое чувство растроганности, а на глаза не наворачивались слезы. Почувствовав это состояние, он говорил. «Все. Можно садиться писать. Аруах разрешил, доволен мной». В прошлой лекции уже говорилось: Таласбека в детстве научили науке различения духов, некоторым духовным техникам. Надо сказать, Таласбек довольно долго пытался писать в отстраненном состоянии, с «холодным сердцем», как наставлял своих учеников М.Магауин. Но у Таласбека так не получалось. Слишком разной природы были таланты. Друг Таласбека, журналист Джанибек Сулеев, который просил Таласа выйти на работу в его газету и не дождался, в конце концов сказал: «Такеда – это ядерная реакция, может вознести газету на космическую орбиту, а может взорвать». В Таласбеке всегда сохранялось что-то очень детское, и он легко мог заплакать от произведения искусства или какого-то события, вытирая слезы как маленький ребенок. Вообще, в казахской культуре мужчина, батыр может плакать. Очень казахский образ – Кобланды, плачущий, расставаясь с родителями. Получив известие о том, что пока он завоевывал чужие города, его родина захвачена врагом, Кобланды бросается на помощь. Не найдя своего аула, оставшись один на старом стойбище в степи, думая о плененных близких, он «Өксіп-өксіп жылады. / Жылап жатып батырдың/ Көзі кетті ұйқыға». – «Плачет навзрыд и засыпает всхлипывая»... Я заметила, что написанные так произведения вызывали слезы и у читателей (зрителей). Таласбек, довольный, сообщал: «Такой-то сказал, что плакал, у такого-то слезы на глаза навернулись». Я смеялась: «Твоя цель заставить плакать весь казахский народ?». А Таласбек отвечал, что в старину существовал орден плачущих суфиев, ведь суфии говорят: "Слезы − полировка сердца". Так что вполне возможно, что плачущие читатели и зрители – это замысел Таласбека. Сейчас роман доступен не только в оригинале, но и на языках ООН, на русском – в моем переводе. Причем я долго колебалась – имею ли право делать его. Потому что когда-то предлагала Таласбеку вместе перевести роман, а он ответил: «Талтүс» – слишком казахский роман, его нельзя просто перевести, как-нибудь я напишу его заново, на русском языке. Результат получился достойным, по крайней мере есть хорошие отзывы не только читателей русскоязычных, многие из которых обратились затем к оригиналу, впервые в жизни прочитали книгу на родном языке. Есть положительные отзывы и американских, арабских, испанских читателей. Американский поэт и филолог Тимоти Уолш даже написал: «Іf you want to fall in love with Kazakh literature, start with Asemkulov’s A Life at Noon...». *** Кинодраматургия Таласбека в основном посвящена исторической теме, это «Биржан-сал» и «Кунанбай», написанные по заказу Досхана Жолжаксынова, сценарий об Аблай-хане «Смерть Кокбалака (Смерть ханского коня)», «Царица Томирис», «Огей» (о Мукагали Макатаеве), фильм-притча «Жезтырнак». Талант Таласбека видеть деятелей прошлого живыми был таков, что, например, многие зрители воспринимают Биржан-сала так, как он предстал в киносценарии Таласбека, не замечают огромной работы, проделанной драматургом. На самом деле Таласбек, с детства прекрасно зная творчество и жизнь Биржана, изучив научные исследования о нем, больше года размышлял о том, как изобразить его. К тому же заказчик актер Досхан Жолжаксынов хотел сыграть главную роль, т.е. надо было писать о последнем периоде жизни Биржана, а об этом уже были написаны киносценарий и повесть «Адасқақ» почитаемого Таласбеком Аскара Сулейменова, тестя Досхана. В конце концов Таласбек решил: Аскар как модернист создал свой образ Биржана, но сначала широкая публика должна узнать «основного» Биржана. В киносценарии стареющий серэ изображен в контексте смены ценностей и элит в колониальном казахском обществе. Поскольку киносценарий о Кунанбае и роман о Татимбете писались один за другим, я не могла не заметить разницы в работе. Исторический роман – это как домна, расплавляющая множество исторических, этнографических, музыковедческих сведений, событий из жизни персонажа – взятых из архивов, устных рассказов, иногда вымышленных. Огромный объем информации переплавляется каждый день в 1-2 страницы текста романа. В киносценарии же реальным эпизодам из жизни героя места зачастую не находится, они по тем или иным причинам не подходят для изображения в кино, а потому собранные сведения не используются, придумываются совершенно новые эпизоды, чтобы донести до зрителя замысел автора, его понимание личности героя. Режиссер театра и мультипликации, заслуженный деятель Республики Горный Алтай тамара Муканова-Мендошева как-то сказала: законы драматургии известны со времен Аристотеля, из тех авторов, которых знаю, только Чехов и Таласбек умели сохранить напряжение, пренебрегая этими законами. Мне кажется, что у Таласбека эта особенность идет от искусства кюя. Законы европейской драматургии, построенные на противоборстве двух начал, проявляются и в европейской классической музыке, а принцип построения кюя совсем другой. После выхода в свет фильма «Биржан сал» актер Саят Мерекенов, исполнитель роли Нуржана – старшего брата Биржана, сказал Таласбеку во время банкета: «Мы, казахские актеры, не такие уж плохие. Но часто ни режиссер, ни сценарист не могут объяснить, что надо играть. Отличие твоего сценария в том, что у каждого героя есть своя правда, каждый актер понимает свою роль. Я до сих пор уверен: мой Нуржан прав!» Напомню, что в фильме Нуржан после нескольких стычек с непокорным младшим братом в конце концов приказывает связать его, Биржан умер от гангрены, начавшейся из-за потертостей от аркана. В фильме выпала сцена, где Биржан перед смертью прощается с братом, вспоминает, как тот всегда заступался за него, благодарит его, а Нуржан плачет. В творчестве Таласбека на самом деле почти нет героев без своей правды. Это принципиально отличает его от писателей, сформировавшихся в лоне соцреализма. А еще это отражает любовь Таласбека к людям. Тема Добра и Зла привлекала Таласбека в метафизическом, религиозном, социальном, психолоическом плане. Даже уже полностью сформировавшимся человеком он читал философскую и психологическую литературу на эту тему. Приведу фрагмент из его дневниковых записей конца 1990-х: «Добро нуждается во Зле. Они вечные спутники. Добро может доказать, что оно есть Добро, лишь в сравнении со Злом. Не бывает Добра самого по себе, как такового. Зло подобно сути, смыслу («парқы») Добра. К тому же великие психологи доказали, что Добро – это лишь бессилие Зла. Добра не бывает без опыта. Зло и есть опыт Добра. Зло есть контекст Добра. Контекст, в котором Добро обретает смысл. Добро познается через соотнесение со Злом... До сих пор никто не смог дать точное определение добра. К Истине немного приблизились Достоевский, Фрейд и Юнг. Художник, который сумел сублимировать свое зло в великое произведение – гений. Он стал выше своих страстей. Добро есть слабость человека, который не смог стать Злым. Зло гениально. Добро слабо, в нем даже нет характера. А если и есть, то он от Зла. Точного определения Добра нет. Но ясно одно – это не субстанция, это производное от чего-то. От чего – пока неизвестно. Вот почему у истоков казахской (тюркской) музыки стоит воинская каста. Война, воинское искусство, военный опыт постоянно граничит с насилием, кровопролитием и т.д. Конечно, эту сложную сублимацию Зла в великое искусство кюя еще надо объяснить, обосновать психологически, эстетически и т.д. Тот, кто сказал «Миром правит зло», – гениальный человек. Здесь можно развить эту мысль и сказать, что миром правит Зло, но не совсем в смысле несправедливости. Просто Зло». К этой теме Таласбек обращается в киносценарии «Жезтырнак» и в повести «Сокровище Бекторы». В этих произведениях главная героиня – нечисть, пользующаяся дурной славой у казахов, − оказывается положительным персонажем, испытывает человека, судит его с позиции абсолютного добра. Оба текста были написаны срочно, с нуля за 10 дней: «Жезтырнак» по заказу, который остался неоплаченным, «Бекторы» − на конкурс литературы для детей и подростков, в котором Таласбек проиграл. Сейчас повесть обсуждается в курсах казахской литературы в университетах и даже вошла в учебники литературы за 11 клас для гуманитарных гимназий. Я пару раз присутствовала на таких обсуждениях, но не будучи филологом, не запомнила их сути. Расскажу немного о том, как писалсся сценарий «Жезтырнак». Заказчица − малоизвестная, но очень красивая актриса средних лет − выбрала жанр "мистика с элементами детектива и экшн". Таласбек попросил ее фото, смотрел на него пару дней и придумал сюжет о Жезтырнак, которая чудом превратилась в молодую красивую девушку, вышла замуж. Но когда она видит несправедливость, она по ночам опять превращается в Жезтырнак и убивает, пытаясь восстановить справедливость. Ведется следствие. На создание сценария было отпущено всего 10 дней, включая замысел. Все эти дни Таласбек писал, на ходу придумывая события, и при этом постоянно разговаривал по телефону на посторонние темы, рассказывал анекдоты, разыгрывал кого-то по телефону. Сценарий начинается с того, что два казахских воина возвращаются с войны с калмыками и везут добычу, в т.ч. двух девушек и двух маленьких мальчиков. В сценарий Таласбек вложил многие свои мысли. Например, о судьбе девушек, которые во время войны попадали в плен и против воли становились женами вражеского народа, рожали сыновей и провожали их потом на войну со своими родными. Эта тема у Таласбек присутствует и в набросках сценария про святого Бекета-ата (к сожалению, этот заказ отозвали). В начале взятые как трофей калмыцкие малыши были просто фоновыми персонажами, Таласбек позвонил знакомому монголоведу узнать старинные имена, назвал персонажей Очир и Самбу. События сценария стали разворачиваться неожиданно для автора. Старшие сестры мальчиков трагически погибли потому, что пожалели взявшего их в плен казаха Байбуру. Главный герой − молодой неженатый батыр Байбура − усыновляет малышей. "Что будешь делать с Очиром и Самбу, они уже не фоновые персонажи?" − спросила я у Таласа, прочитав очередную порцию рукописи. "Думаешь, я этого не понимаю. Я только о них и думаю!" − ответил Талас. Мальчики проходят воинское воспитание и отправляются на войну с калмыками. После победного сражения Байбура ищет своих сыновей. Очир и Самбу участвовали в своем первом в жизни сражении в составе полка юных воинов – уланов и погибли. Потрясенный горем Байбура видит, как один из командиров собирается убить калмыцкого мальчика. Казахи, как и другие степняки, брали в плен мальчиков ростом не выше тележной оси, а тех, кто старше 2-3 лет, убивали. Очень жестоко, но, с другой стороны, степняки усыновляли взятых как трофей малышей, а не превращали в пленников, считалось, что малыши забудут родных, а более старшие мальчики не смогут забыть и будут мстить. Кстати, далекий предок Олжаса Сулейменова, в честь которого поэт был назван, батыр Олжабай – из таких захваченных в плен малышей, казахское слово «олжа» означает «трофей». Таласбека жестокость по отношению к пленным детям ранила, но он понимал суровую логику такого действия. Байбура, оплакивая сыновей, пытается усыновить пленного мальчика постарше. Сценарий не был реализован заказчиком, но победил на конкурсе в Южной Корее. По существу, «Жезтырнак» и «Сокровища Бекторы» − это магический реализм, элементы его есть и в «Биржан сале»: образ покровительницы домбрового искусства Койбас-ана − Мать с овечьей головой, а также сцен не вошедших в фильм: избитый почтабаем Биржан со своим коноводом заночевал в мазаре, ночью началась гроза, перед мазаром разгорелась битва батыра-одиночки с вражеским отрядом. На утро на земле не осталось ни следа той битвы. «Это земля видит сны», − объясняет Биржан коноводу, а тот овечает: «Если бы я был один, я ничего бы этого не увидел». Таласбек, сам живший на грани двух миров, общавшийся с аруахами во сне и наяву, не признавал магический реализм и терпеть не мог Габриеля Маркеса. Он не стал включать в автобиографический роман «Талтүс» ритуалы инициации, через которые его проводили в детстве, мистические сцены, свидетелем которых был. Сам он объяснял это тем, что не хочет отвлекать внимание читателей от музыки и хочет, чтобы его рассказ о музыке был принят всерьез. Я думаю, что еще одна причина неприятия Таласбеком магического реализма: неодобрительное отношение к нему как к «қияли» в молодости. Только последние годы Таласбек принял магический реализм на сознательном уровне, заказал из Москвы объемную биографию Маркеса, планировал написать исследование о нем, Данте и Мукагали. В киносценарий о Мукагали он включил ряд эпизодов мистического плана. Таласбек назвал написанный на русском языке киносценарий «Өгей», это слово означает «приемный, чужой» (өгей бала – пасынок, өгей шеше – мачеха). Смысл этого названия: художник всегда сирота, приемыш в земном мире. Таласбек имел в виду и самого себя, он почти не использовал в сценарии материалы жизни поэта. Сценарий пришлось дописывать мне, и я в надежде сделать его более приемлемым, понятным для обычной аудитории постаралась уровновесить эти мистические эпизоды эпизодами, связанными с реальной жизнью поэта. Впрочем, это не помогло, закзачику сценарий так и не понравился.
" Комедийная актриса Гульшат Тутова, сыгравшая в фильме «Биржан сал» жену главного героя, великого певца 19 века Биржана, как-то смеялась: после роли Апиш я стала идеалом для казахских мужчин, куда бы ни пришла, все цитируют мои реплики: «Ит-итақай қос-қостап тоқал алғанда, Біржаным кімнен кем» − «Когда всякая собака берет по нескольку токал, чем мой Биржан хуже», «Ер азаматтың намысы тапталып жатқан жерде, бір қатынның өлімі – садақа» − «Когда топчут честь мужчины, смерть какой-то женщины – малая жертва». Вторая реплика звучит в эпизоде, когда жена Биржана Апиш умирает от болезни, но убеждает избитого поштабаем мужа ехать бороться за свою честь. Причем актриса в ТВ-передаче сказала: разучивая роль, я не понимала, почему я должна умереть ради чести мужчины, но во время премьеры эта реплика была встречена аплодисментами, позже я поняла: чем больше мы уважаем мужчину, поднимаем его над собой, тем больше уважают, почитают нас. Можно оспаривать эту позицию с современной точки зрения, но наша цель – не обсуждать эту тему, а рассказать о взглядах на женский вопрос автора сценария фильма «Биржан сал» кюйши, писателя, кинодраматурга, исследователя Таласбека Асемкулова. Однокурсник Таласбека по КазПИ имени Абая, фольклорист Кенжехан Матжан как-то сказал: «В молодости мы все были благоверными комсомольцами, верили в приближение коммунизма, и Таласбек казался нам таким странным, отсталым, все время рассказывал какие-то аульные истории. Мы только потом узнали, что он в 10-11 лет уже прочитал Тургенева и Чехова, Золя и Мопассана, знал классиков наизусть». Таласбек отлично знал западную литературу, но в основе его мировоззрения лежало воспитание, полученное от деда – кюйши Жунусбая Стамбаева. С большой вероятностью взгляды Таласбека можно отождествить со взглядами казахской элиты начала ХХ века. В студенческом исследовании 1979 года, сейчас известном под названием «Казахский эпос: человеческий дух в поисках изначального смысла», Таласбек анализирует персонажи эпоса как персонификации сил человеческой души: батыр – воля человека, невеста − цель и смысл пути, вдовая мать Козы-Корпеша Мамабике, не отпускающая сына в путь, − человеческий страх, печаль, уныние, воительница Қарлыға, убившая отца и брата ради любви, − слабость человека, превращающаяся в совесть. Такой способ интерпретации текста Таласбек, по его словам, перенял у своего деда и его друзей, они так анализировали казахский фольклор, а также «Тысячу и одну ночь». Условно женские образы в творчестве Таласбека Асемкулова можно разделить на несколько типов: Образ традиционной казашки – мудрой жены и матери, для которой важнее всего честь и благополучие мужа, его рода. Таковы Апиш в «Биржан сале», Зере и Кунке в «Кунанбае», Калайы в «Таттимбет серэ», Калима в «Полдень». Образ женщины, пострадавшей из-за мужского эгоизма и косности общества: неназванная героиня в раннем рассказе «Болмашы әңгіме» − «Незначительный разговор», события которого происходят в советском ауле, старуха Мугульсум в киноромане «Биржан сал», Аксункар в романе «Таттимбет серэ» и главная героиня в ранней повести ""Шымдан"". Вымышленная Мугульсум и реальная Аксункар были бесплодны, и за это потеряли статус, опустились на уровень невольниц. Повесть «Шымдан» посвящена судьбе реальной девушки, за которую в середине ХІХ века боролись три волости, боролись, пока она от физического и психологического насилия не сошла с ума и не умерла. Образ первой возлюбленной в романах «Полдень» (Гульшат) и «Таттимбет серэ» (Ханшайым) − сильной и не по возрасту мудрой девушки, которая вовлекает юного музыканта в отношения и сама прекращает их. Образ сильной женщины, возглавляющей народ (царица Томирис в одноименном киноромане, адайская Тажике-ханым в фрагменте сценария «Мангыстауский поход»), тайную службу (Даля-Махтал в незаконченном киноромане «Медный город» по мотивам «Тысяча и одной ночи»). Образ сверхъестественной женщины (Жезтырнак, пери Бекторы), которая судит человечество с позиций абсолютной истины, помогает или наказывает людей. Эти образы – плоды художественного вымысла, однако они укоренены в нашей мифологии, в которой женщина имеет сверхъестественное происхождение, является мужчине из высшего мира. Она – посредник между мирами. В планах Таласбека Асемкулова было исследование о древнейшей религии наших предков, где он наряду с известным образом богини Умай, покровительницы рождения и жизни, творящей матери, хотел описать забытый образ богини-матери Менлик, персонификации времени, смерти, уничтожения. Таким образом, спектр женских образов в творчестве Т. Асемкулова широк, он далеко не ограничивается тем, как сейчас принято представлять традиционную казашку. Кстати, в фильме «Биржан сал» Апиш о намерении ее мужа жениться во второй раз, на девушке по имени Ляйла сообщает ее старшая родственница, старуха Мадияр, она с жалостью говорит (перевод Таласбека): «Родная моя. Ты была такой девочкой, дороже сына... Бог сотворил мужчину, а женщину из ребра его. Он сделал мужчину превыше женщины, – голос у ней задрожал. – Мой-то ведь помимо меня еще троих жен привел в дом. Что делать, покорилась. Такова женская доля... Пока первая жена не даст согласия, никакой мужчина не может жениться второй или третий раз. Вот ты и покажи, что ты старшая жена. Сама предложи Биржану жениться. Пусть не даёт повод для сплетен и женится законным путем... Токал будет жить отдельным аулом. Но ты не смотри на неё как на разлучницу. Нет. Наоборот, прими её как дочь родную и воспитывай как дочь. Потом, запомни, худшее на свете — это когда сыновья старшей и младшей жен враждуют между собой. Поэтому сыновья её да будут твоими сыновьями. Она рожает, ты усыновляешь. Вот моя милая, наши матери были такими мудрыми и хранили очаг. Умная байбише найдет общий язык с любой токал, с любой разлучницей. Ты ведь дочь рода Атыгай-Караул, который когда-то шесть раз женил самого Аблай-хана. Будь умной. Думай только о своем очаге, о своем муже...». *** Небольшое отступление. Конечно, этот эпизод вымышлен, в реальности Апиш была не байбише, а четвертой женой Биржана, Ляйла − второй. Правда, певец никогда не имел несколько жен одновременно, в основном женился, став вдовцом. Почему сценарист отошел от фактов? Согласно заказу Досхана Жолжаксынова надо было изобразить последний, трагический отрезок жизни певца, когда ему 60. В фильме обязательно должна была прозвучать предсмертная песня Биржана «Темиртас», а в ней произносятся имена младших детей Биржана, от Апиш. Самое главное, Апиш в качестве жены и Лайла в качестве возлюбленной, на которой Биржан не смог жениться, были выбраны Таласбеком, исходя из звучания имен, из характера песен, посвященных двум этим женщинам. В песне «Ляйлим-шырак» Биржан упрекает девушку, что она не сдержала своих обещаний. История малоизвестной и нехарактерной для Биржана песни, посвященной Апиш, такова. Однажды Биржан, уехав со свитой как обычно на месяц-два, не возвращался в свой аул полгода или год. Он сочинил песню-обращение к Апиш, в которой как бы просил у нее прощения за долгую отлучку. Таласбек хотел, чтобы Биржан, потеряв жену, исполнил эту песню на могиле Апиш, и это пение на могиле было воспринято сородичами как начало его помешательства. Для писателя было важно показать современному казахскому зрителю, что прославленный Биржан был надломлен смертью жены. Таласбек говорил, что поговорку «қатын өлді – қамшының сабы сынды» − «жена умерла − сломалась рукоять камчи» сейчас понимают неправильно, приравнивая ценность жены к цене обрезка тальника, из которого делают рукоять камчи. Он объяснял, что поговорка эта идет из истории о красноречивом Жиренше и его мудрой жене Карашаш. Когда друзья с помощью метафор подготовили Жиренше и объявили ему о смерти его жены – обычай естірту, он сидел, опершись лбом о рукоять своей камчи, та сломалась, и Жиренше упал замертво. То есть тяжесть его горя была такова, что переломила самое прочное дерево и убила его самого. И стоит иметь в виду − камча имеет сакральный статус в казахской культуре. *** Возвращаясь к теме гендера и женских образов в творчестве Таласбека Асемкулова, отметим, что в сценарии «Биржан сал» женщины смиряются с появлением токал, чтобы соблюсти приличия, сохранить достоинство мужа. И, конечно, здесь звучит религиозная тема – женщина сделана из ребра мужчины, она по определению ниже его. Таласбек считал, что одна из потерь казахов, связанных с принятием ислама, это снижение статуса женщины. Действительно, сейчас все больше сведений о том, что в доисламский период у тюрков и монгол был баланс мужской и женской власти и культ богини-женщины. Защита исламом социально-экономических прав женщины в случае казахов дала осечку, а вот статус ее понизила. Тема достойного мужа, ровни (тең) была очень актуальна в казахском обществе в 19 веке. В песне Биржана «Ғашығым» − «Возлюбленная» от имени женщины поется: Дариға, дүниеге неге келдім, Келдім де, бір жаманның соңынан ердім. Зачем я пришла в этот мир, Пришла, чтобы выйти замуж за ничтожного. По одной из версий, Биржан сочинил эту песню для Сары после их прославленного айтыса, и благодаря этой песне Сара получила разрешение развестись со своим мужем. Достоинство женщины действительно было тесно связано с достоинством ее мужа, семьи. Таласбек собирался в будущем киносценарии об Абае использовать историю, которую слышал от стариков. В народной памяти Кунке, байбише Кунанбая, осталась не только как властная, но и мудрая, благородная женщина. Именно Кунке сосватала Улжан мужу. Кунанбай со своей байбише проездом остановились в доме родителей Улжан. Он первым вышел из гостеприимного дома, вскочил в седло, а его жена почему-то задержалась. Уже в пути она обратилась к мужу с вопросом: «Ты что-нибудь заметил в доме, где мы гостили? Тебя ведь считают сыншы. Разве ты не заметил дочь хозяев? Ее лоно драгоценно, она родит великого сына. Пока ты ждал меня, я выяснила, что девушка свободна, и сосватала ее для тебя». Женитьба на Улжан, дочери влиятельного каракесекского бия Алшынбая, помогла Кунанбаю стать старшим султаном Каркаралинского округа. Таласбек анализировал два стихотворения Абая, которые сейчас считаются шедеврами его любовной лирики. В статье «Аюп һәм Абай» («Иов и Абай») он разбирает стихотворение Абая: Жарқ етпес қара кѳңiлiм не қылса да, Аспанда ай менен күн шағылса да, Дүниеде, сiрә, сендей маған жар жоқ, Саған жар менен артық табылса да... «Сияют в небе солнце и луна, Моя душа печальна и темна. Мне в жизни не найти другой любимой, хоть лучшего, чем я, себе найдет она. И пусть любимая, забыв любви слова, к моей тоске и верности мертва, забудет, оскорбит меня без сожаленья, Я все прощу – моя любовь жива». В этом переводе Павла Карабана, сделанном с подстрочника, есть ошибка: в оригинале солнце и луна не сияют, они раскололись. Но у других вариантов перевода не меньше ошибок, поэтому привожу этот, самый известный. Стихотворение это принято считать одним из ранних любовных произведений Абая, посвященных девушке. По мнению Таласбека, Абай – избалованный женским вниманием гордый сын знатного и богатого рода – не стал бы настолько унижаться перед женщиной. По его мнению, это предсмертное стихотворение Абая, основанное на суфийском понимании любви к Всевышнему: «жар» − «возлюбленный, супруг, опора» — это именно Творец. Расколовшиеся Солнце и Луна – умершие в расцвете лет любимые сыновья поэта Абдрахман и Магауия, на которых он возлагал надежды. Их смерть – настоящий конец света для поэта, в эти страшные для себя мгновенья вступает в диалог с Богом как Иов, говорит о своей любви и верности Ему. Еще один признанный шедевр Абая − стихотворение «Сен мені не етесің?». В русском переводе «Ах, что за жребий ждет меня?». Хотя буквально заглавную строку можно перевести «Что ты делаешь со мной?» Это стихотворение – формально поэтический эксперимент, игра поэта с ритмом и строкой. В стихотворении есть строки «Шын жүрек – бір жүрек» − «Истинное сердце – одно сердце», т. е. настоящее то сердце, что способно лишь на одно чувство. Таласбек Асемкулов в эссе «Абайдың ұлы жұмбағы» − «Великая загадка Абая» интерпретирует стихотворение совершенно иначе. По его мнению, поэт в стихотворении раскрывает Эго мужчины, который считает, что влюблен безответно и страдает от этой любви. «Иттей қормын,/ Зармын,/ Сен үздің ғой бұл желкемді» − «Я унижен как собака, /В горе, / Ты сломала мне хребет». В то же время лирический герой умоляет возлюбленную снизойти до него, оказать ему милость, за которую никто ее не упрекнет, т. е. вероятно он склоняет ее к внебрачным отношениям. По мнению исследователя, гордого Абая нельзя и пытаться отождествить с героем, умоляющим женщину отдаться ему из жалости. И невозможно представить, чтобы такой тонкий лирик и философ как Абай в любовном стихотворении говорил о собственности на тело женщины, как его герой: «Ақ етіңді,/ Нұр бетіңді/ Меншікті/ Қылмаған соң ...» В конце концов мужчина угрожает отвернувшейся от него женщине Страшным судом и адским огнем: «Тәңірі – қазы / Тас таразы,/ Тентекті Сұрамас деп Қалма,/Серт бұзғанның, біл, орны – шоқ». Таласбек Асемкулов считал, «Сен мені не етесің» — это не только формальный эксперимент поэта, но и совершенно новая для казахов тема – болезненное Эго собственника, готового на любые унижения и манипуляции, чтобы овладеть объектом своей страсти. Эти интерпретации Таласбеком стихотворений Абая, опровергающие каноны абаеведения, были приняты в свое время в штыки. Но Таласбек планировал написать десять статей о творчестве Абая в этом духе. Я подшучивала: ты хочешь лишить Абая любовной лирики? Не знаю, какие еще произведения Абая Таласбек планировал анализировать, но эти его интерпретации, как мне кажется, − не только об Абае, но и о самом Таласбеке. Как заметила критик Асия Бакдаулет, о ком бы ни писал Таласбек, прежде всего он выражал самого себя. Чтобы завершить тему Абая. Таласбек, ссылаясь на рассказы стариков, которые он слышал в детстве, говорил: Тогжан в романе М. Ауэзова ""Путь Абая"" − вымышленный образ, первой любовью Абая была девушка по имени Куандык, дочь прославленного найманского бия Актайлака. Но Кунанбай уже сосватал для сына Дильду из не менее знатной семьи, и взять раньше Дильды Куандык означало смертельно оскорбить сватов. Поэтому Кунанбай предложил Абаю: ""Поговори с Куандык, может она согласиться стать токал?"" Куандык так возмутилась, что дала Абая мощную пощечину, от которой тот отлетел и упал. Позднее мудрая Дильда, видя страдания мужа, отправила к Куандык человека, предложив ей выйти замуж за Абая и обещая уступить статус байбише. Но гордая Куандык ответила: ""Пол Абая мне не нужно, делить его ни с кем не хочу"". Куандык и Абай увиделись только перед смертью Абая. Куандык приехала выразить соболезнования Абаю по поводу смерти его сыновей. К пожилой уважаемой женщине подскочили джигиты, чтобы помочь ей сойти с коня. Но Куандык громко сказала: ""Анау бұқамойын өзі мені түсірсін"" - ""Пусть тот, с бычьей шеей (прозвище Абай) сам поможет мне сойти"". Услышав это, Абай встрепенулся ""Куандык приехала"". Когда они сидели в юрте, Еркежан − одна из токал Абая, доставшаяся ему по обычаю аменгерства − попыталась сказать колкость Куандык, но та спокойно ответила: ""Руку (Абая), которую держишь ты, я держала первой"". Таласбек любил такие истории, которые опровергают представления современных поборников «традиции». Он передал историю песни «Шапибай-ау» о девушке-воительнице 18 века. В войске за огромную силу и лихость Шапи стали называть как мужчину – Шапибай. Четверть века она воевала с джунгарами, возглавляла женский отряд. Война закончилась, девушки из отряда Шапи разъехались по аулам, выходили замуж. Но жених и все аменгеры Шапи погибли на войне. Ей было за сорок, мужеподобная по природе, она сильно огрубела и состарилась за годы войны. У казахов был обычай – старой деве выделяли ее енші – долю в семейном состоянии, равную половине доли женатого брата. По желанию девушки, ей ставили в стороне от аула отдельный дом со всем убранством, с прислугой, если позволяло состояние. Такой дом назывался «бөде үй». Мужчинам, ищущим жену, разрешалось посещать его, вдруг девушка все-таки найдет себе мужа или хотя бы насладится жизнью. Дом этот ставили поблизости от мазаров, как бы подчеркивая его экстерриториальность по отношению к казахским нормам права и морали, освященность древнего обычая духом предков. Вероятно, это рудимент матрилокального брака. Обычай этот был настолько вытеснен из общественного сознания, что один из старших писателей объяснял «бөде үй» как «юрта, поставленная для девушки, прикрытая пологом постель девушки», хотя для этого понятия есть широко распространенный термин «көсеге». В советское время в песне вместо «бөде үй» стали петь в припеве «бәдәуи», т.е. «бедуин». Историю песни «Шапибай-ау» можно прочитать на нашем сайте казахской музыки, мифологии, культуры Otuken.kz в разделе «Тылсым перне». Конечно, у слушателя или читателя возникает вопрос: насколько можно доверять информации, переданной Таласбеком? Этот вопрос преследовал Таласбека с юности. Но если вспомнить: в 17 лет он исполнял девяносто неизвестных этномузыковедению кюев, которые были признаны подлинными, вошли в золотой фонд казахской культуры. В CD -альбомах-антологиях инструментальной музыки «Мәңгілік сарын» и «1000 кюев казахского народа» в исполнении Таласбека дано кюев больше, чем в чьем-либо еще. Продюсировали антологии недоброжелатели Таласбека, но кроме него на тот момент никто не мог исполнять эти кюи. Его с рождения готовили, чтобы передать в будущее кюи, а вместе с ними он получил множество других знаний о традиционной культуре, и как личность он был сформирован хранителями этих знаний. В автобиографическом романе «Талтүс» − «Полдень» он сосредоточился на музыке, и осознанно не описывал ритуалы, через которые его проводили, магические умения, свидетелем которых был в детстве, чтобы не отвлекать читателя от главного. Таласбек считал, что казахское традиционное искусство создано в основном сал-серэ. Кто они такие? Это тип творцов и хранителей музыкального и поэтического искусства, уходящий корнями в глубокую древность, в поздний каменный век, как доказал наш ведущий фольклорист Едиге Даригулович Турсунов. Он еще в начале 1970-х реконструировал сложный путь от ритуальных тайных союзов избранных воинов древности к сал-серэ. По мнению Таласбека, сал-серэ – осколки могущественных военно-духовных орденов кочевников Великой степи, давших начало рыцарской культуре средневековой Европы и Востока. Сал-серэ до 19 века были острием копья казахского войска, шли на битву как на долгожданное свидание с женщиной, весело и красиво умирали в своих вычурных шелковых одеждах, даже не потрудившись прикрыть их доспехами. Воины и поэты в одном лице – они воспевали Войну и Любовь, Жизнь и Смерть… Музыкальный и поэтический дар, способность импровизации, красивый голос, остроумие, приятная внешность, физическая сила, храбрость, воинское искусство, хорошее происхождение и образование, значительное состояние, щедрость – качества, необходимые для сал-серэ. Поскольку сал-серэ были смертниками, призванными вдохновить войско, в мирное время они пользовались привилегиями. В колониальный период сал-серэ утрачивают свое воинское значение, превращаются в артистическую богему. Конечно, любовь, которую воспевали сал-серэ, была в том числе и суфийской, любовью к Всевышнему. И все-таки, культура, сформированная ими, была пропитана эротикой. В романе «Талтүс» рассказывается, как по обрывку музыкальной фразы был восстановлен кюй Таттимбета «Балбраун», одноимённый с известным кюем Курмангазы. По словам Таласбека, «Балбраун» — это очень архаичный жанр обрядовой музыки, раньше, во время исполнения кюев этого жанра домбристы делали руками недвусмысленные движения. Таттимбет очистил и перевоссоздал этот жанр, создал настоящий шедевр. В свое время Таласбек для описания этого кюя придумал слово «жынысты» (сексуальный). Казахи говорили: «көңілсізден көтсіз туады» − (Зачатый) «без страсти − родится без члена». Таласбек считал, что казахи женили детей в 14-15 лет, чтобы они развивались естественно, без комплексов и сублимации. По его словам, у казахов было много примет, чтобы определить, есть ли гармония в сексе у молодоженов. Например, по походке новобрачной, по тому, как она стучит каблуками, или прикоснувшись к ее локтю, можно было определить, насколько она удовлетворена. Жеңге – жена старшего брата – обычно бывала наперсницей и золовки, и младшего деверя, и младшей невестки. Она присматривала за молодой семьей, и если замечала неладное, то начинала подкармливать деверя едой, усиливающей потенцию, объясняла ему постельные секреты. Не было принято, чтобы родители или кровные родственники молодых обсуждали с ними эту тему. Рассказы и шутки пожилых казахов в детстве Таласбека были довольно откровенными. Как-то соседка прибежала к ним домой, жалуясь, что муж хочет побить ее. За ней следом пришел и мужчина. Он заявил, что жена заслуживает наказания, потому что пытается заставить его делать женскую работу, таскать воду из колодца. Приемная мать Таласбека посмотрела на парня и сказала: «Откуда ты знаешь, какая работа мужская, а какая женская. Ты что, ведро членом таскать будешь?» Тот, поверженный в словесном поединке, молча развернулся и ушел, плечи его тряслись от смеха. Таласбек восхищался остроумием приемной матери, которая была дочерью бия, а позже использовал эту шутку, немного переделав, в киноромане «Царица Томирис». *** Иностранные читатели романа «Талтүс» («Полдень») первым делом обращают внимание на тему бытового, семейного насилия (физического и психологического), которое продолжается в жестоких, без правил драках аульных мальчишек. Изображая в романе насилие, Таласбек не просто изживал свои детские травмы. У него были две художественные задачи. Во-первых, показать контраст унаследованной казахами прекрасной музыки и жестокости повседневной жизни. Во-вторых, раскрыть причину этой жестокости – детские травмы тех, кто совершает насилие, и исторические травмы казахов, ожесточившие их, приведшие к внутренней агрессии. Таласбек не просто осмыслял свой детский опыт, но и теоретически изучал проблему насилия, работал в общественных библиотеках, да и в нашей домашней библиотеке психологическая литература занимала целую полку, сохранился отдельный объемистый том «Психология насилия», все эти книги покупал Таласбек. В жизни он мог быть прямым до грубости с начальством, у него была репутация несговорчивого человека, но в семейной жизни он был мягким. Он абсолютно не переносил насилия над женщинами и детьми, всегда, даже уже очень больным, бросался на защиту. И он очень ценил личность женщин, талант, умел дружить с женщинами. Например, все 18 лет нашего брака он постоянно восхищался моим интеллектом, подталкивал меня писать, не растрачиваясь на работу в штате, даже если годами я не зарабатывала ничего. И в тоже время всегда искренне восхищался мною как женой, матерью, хозяйкой, хотя на самом деле я мало занималась домашней работой. В целом Таласбек считал, что два фактора привели в XVIII−XIX веках к огрублению нравов казахов, в частности, по отношению к женщинам. Во-первых, бесконечная война с калмыками, захват пленных женщин, которых привозили так сказать «на крупе коня» и превращали в токал или невольниц. Обилие женщин обесценивало их, к тому же привычка грубо относиться с пленными женщинами переносилась и на своих. Во-вторых, поражение кочевой цивилизации, более конкретно, колониальное рабство, бессилие казахов перед внешним врагом заставляло их вымещать агрессию на слабых – на женщинах и детях. В киноромане «Кунанбай» о казахах говорится: «Қақпанға түскен қасқырдай өз аяғын өзі шайнаған ел» − «Народ − волк, попавший в капкан и грызущий собственную лапу». "

авторка курса


Исследовательница казахской мифологии, писательница, киносценаристка, переводчица, кандидатка философских наук (PhD). Лауреатка Национальной премии-конкурса «Алтын Адам – Человек года 2014» за цикл передач о казахской традиционной музыке «Тылсым перне» на радио Классика. Рассказ «Соперница» в переводе на английский стал в США лауреатом Best Asian Short Stories 2019.



















